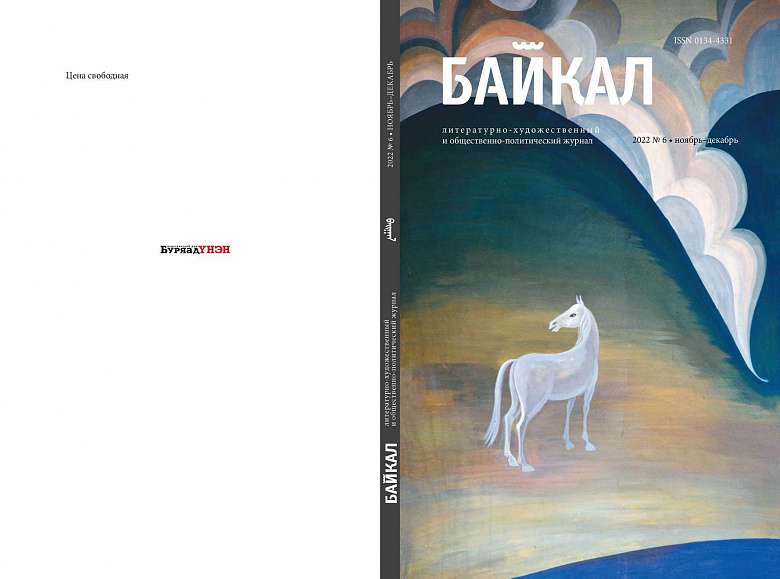
На обложке фрагмент фрески Аллы Цыбиковой «На земле Гэсэра». (Бурятский драматический театр им. Хоца Намсараева). Фото Ю. Извекова
Татьяна Ясникова. О чём пишут, вспомнила. Стихи
Алексей Гатапов. Посвящается 200-летию первого бурятского ученого Доржи Банзарова. Дневник чиновника особых поручений. Отрывок
Ирина Чуднова. Субботний чай в саду под ивами. Стихи
Вячеслав Вьюнов. Анна. Мария. Любовь. Из романа «Сладкая печаль сердца»
Есугей Сындуев. Троянская война на Селенге. Поэма
Николай Хосомоев. Жизнь, она продолжается. Рассказ
Кирилл Радченко. Зимняя сказка. Посёлок Восточный... Стихи
Анна Виноградова. Дождик и богиня. Рассказ
Дневники и воспоминания
Баир Дугаров. Тетива травинки. Дневник 2011 года. Продолжение
Критика и литературоведение
Светлана Имихелова. Верность народной поэтической стихии. К 75-летию Баира Дугарова
История и краеведение
Евгений Голубев. Жигжитжаб Батоцыренов. Возвращенный из забвения
Нон-фикшн
Леонид Оппаджапов. Бриллиантовые руки, или Семён Семёныч в Монголии
Содержание журнала за 2022 год
Приобрести журнал и подписаться можно по адресу: Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, 23, каб. 16, тел. 21-50-52.
Алексей Гатапов. Дневник чиновника особых поручений. Отрывок
17 сентября 1850 г. Вторник.
С нынешнего дня начинаю вести описание своего жития в городе Иркутске и службы при генерал-губернаторе Муравьёве. Мысль об том, что недурно бы завести дневник, дабы сим нехитрым способом занять себя в забытом Богом краю, вдали от университетов и академии, от друзей и товарищей по учёному кругу, пришла ко мне ещё на пути из Казани, где-то между Омском и Красноярском. Задумка сия всё витала вокруг моей головы, я раздумывал над нею, однако до сих пор всё не решался, всё было недосуг, всё время я был в пути, на временных постоях, однако теперь, когда я, наконец, осел в Иркутске, то и взялся внести свою первую запись.
Все минувшие годы я не смел и мечтать о подобной роскоши — описывать примечательные наблюдения жизни, занятные приключения, порою случавшиеся со мною, возвышенные чувства и мысли, нередко посещающие меня, понеже и в гимназии, и в университете всё мое время уходило на постижение глубин учёности, да и после, в Петербурге и Казани, с головою погружённый в труды, я отказывал себе даже в самом малом развлечении для утоления собственных душевных потребностей. Подобно гончему псу носился я в поисках ответов на свои и чужие вопросы, не помышляя ни об чём ином. И лишь теперь, очутившись в сем дремучем краю, где от прежней моей полезной для науки жизни и от тех учёных трудов, кои я мечтал свершить в ближайшие годы, я навек отрезан, как если бы я оказался на необитаемом острове, то вполне могу употребить свой досуг на собственные увлечения, хотя бы ради того, чтобы не помереть со скуки прежде отпущенного мне срока.
Итак, милостивые государи, изволите видеть: казачью службу мне переменили на службу чиновником особых поручений в Иркутске, понеже государь и его министры не сочли нужным дать мне полного освобождения и возможности безоглядно отдаться учёным изысканиям, как может поступить всякий человек свободного состояния.
Поначалу я убеждал себя в том, что мне надобно радоваться и тому, что попал не в штаб инородческого войска в Селенгинске, а в канцелярию генерал-губернатора в Иркутске, питая надежду на то, что здесь я смогу хотя бы отчасти заняться своим делом, тем более, что имел при себе рекомендательное письмо за подписями троих именитых академиков с просьбою обеспечить мне возможность заниматься учёными поисками. Однако, прибыв на место и поближе ознакомившись с условиями службы, я понял, что об этом здесь я не могу и мечтать. Его высокопревосходительство с маниакальною ревностью относится к исполнению государевой службы и строжайше требует от чиновников, чтобы те находились за исправлением своих должностей «от сих и до сих».
При первом же визите, третьего дня, когда я прибыл к нему для представления, он заявил, что не потерпит никакого своеволия и нерадения.
— Вне службы как вам угодно, — холодно сказал он, с видимым неудовольствием прочтя моё рекомендательное письмо. — Однако в те часы, кои полагаются для несения службы, извольте соответствовать.
Но не в одном лишь том заключается дело, главная беда — в убогом для ученой жизни состоянии города и обитающего в нём общества, отдаленности их от большого мира... Иркутск далеко не город в истинном смысле слова, где возможна была бы полнокровная духовная жизнь. Это нечто среднее между острогом, военною ставкою и купеческим караван-сараем. Улицы грязны, не устроены, каменных домов мало, на один приличный городской дом вы увидите три десятка чёрных деревенских изб, мостовых почти нет. На улицах вы чаще всего будете лицезреть какие-то конные сотни, пехотные колонны, вздымающие вокруг облака пыли, этапы кандальников, толпы пьяных возле распивочных, крики и драки между ними, бесконечные купеческие обозы с колониальными товарами, стада баранов, гонимых для полковых котлов и проч. Ученая жизнь здесь находится в том зачаточном состоянии, коя может удовлетворять разве что гимназистов средних классов или воспитанников городского училища. Достаточно заметить, что в Иркутске, губерния которой граничит с Китаем и Монголией, нет ни одного синолога, ни одного монголиста. Единственная публичная библиотека, появившаяся в городе несколько лет тому назад, до крайности убога, во многие разы беднее, чем таковая в казанской гимназии в мою бытность. Вчера я побывал в сем храме мудрости и, к примеру, из сколько-нибудь дельной литературы по истории нашел лишь Татищева, Карамзина и записки Ломоносова, а по естественным наукам — ботанику Ледебура в Азиятском вестнике Спасского. На полках лежали книжицы вроде повестей о Бове-королевиче, Четьи-Минеи, Евангелие, жития святых и проч. Выписывать для себя нужные книги из России денег у меня нет, жалования едва хватит на то, чтобы прокормиться, кое-как одеться и оплатить жилье. Я слыхал, что в домах многих господ есть и богатые библиотеки, но содержание их покуда мне неведомо; возможно, что они забиты французскими и английскими романами, до которых я не великий охотник. Может быть, есть сочинения философов, что-нибудь по новейшей географии, надо будет разузнать.
Оказавшись в Сибири, я мог бы с большею пользою пуститься в путешествия по краю, у которого имеется самобытная история и обилие памятников древности, объехать Монголию, и даже, может быть, дойти до таинственного Кукунора и Тибета, открыть для науки новые неизведанные земли, однако, я здесь посажен на цепь и должен служить своим хозяевам. При том же моём визите его высокопревосходительство заявил мне, что поскольку государь-батюшка выучил и поднял меня, инородца, на одну ступень с лицами высших сословий, то я, коли есть во мне какая-нибудь человеческая душа, обязан до конца своих дней иметь единственное чувство — нижайшее благоговение перед его образом и стремление всеми силами послужить трону, отплатить добром за добро. Что ж, возможно, сентенция сия имеет свою долю справедливости. Однако, имея при себе какое-никакое человеческое соображение, я мог бы и вопросить: во-первых, разве без малого двухсотлетняя служба моих предков русскому трону, столь же давние несметные взносы моих соплеменников в казну, все недра и богатства моей страны, отданные безраздельно на благо российской империи, не окупили моё жалкое учение в императорской гимназии и университете? Учение впроголодь, на арестантском положении, под угрозою карцера и битья розгами, такое, что из четверых посланных в Казанскую гимназию, выжил только я один, а остальные погибли. А с другой стороны, к чему было моё учение в университете, чего ради были отпущены казенные деньги на моё содержание, для чего я занимал там место, коли потом найдут мне употребление здесь, за подьяческим столом, где с избытком хватит пяти классов гимназии или кадетского корпуса? В Казани один коллежский асессор кончил всего лишь два класса городского училища, в одиннадцать лет от роду поступил в канцелярию и теперь вполне себе исправно несёт службу. Зачем было делать из меня ученого, способного на равных вступить в научные споры с именитыми немецкими академиками, чтобы затем посадить за бумаги о тягловых недоимках, воровстве тайшей и зайсанов? Полгода я ждал решения государя по моему делу и получил ответ, по коему я оказался не нужен в учёных трудах. То было для меня как обухом по лбу, я вопрошал себя: как же так?.. с какою целью?.. для какой пользы?.. и не мог найти ответа. И я впервые в своей жизни подумал о таком, что прежде было бы для меня богохульством: а каковы же умственные пожитки тех господ, которые нами правят, да и сам царь-батюшка, которого мы все почитаем наравне с господом Богом, здоров ли рассудком? Добро ли то, что народ без оглядки вверяет себя воле одного лишь царя, святость и безукоризненность которого нам внушают с гимназической скамьи? Я стал оглядываться вокруг и обнаруживать всюду вопиющие глупости и несуразности, замечать тупость начальства, нелепость порядков, по которым живёт общество — всё то, на что я прежде, с головою погружённый в науки, не обращал своего внимания. И по холодному рассуждению правда оказывается на стороне тех, кого у нас шельмуют со всех трибун — Белинских, Петрашевских, Дуровых и прочих революционеров, развенчивающих святость и законность государева самовластия. С некоторых пор я стал почитывать Прудона, Фейербаха, думать о праведном устройстве мира... И теперь жалею, что живя в Казани и Петербурге, я не догадался хоть раз посетить кружки Петрашевского, чтобы поглядеть, что это за люди, каковы их помыслы и устремления.
А ещё гложет меня обида на Академию Наук, коя недавно рукоплескала мне, когда я так послужил ей с приведением в порядок накопившихся у них за двести лет восточных рукописей и иных памятников, а как только вышло решение отправить меня в Сибирь, то все её члены разом забыли меня, словно знать они меня не знали или вовсе не существовало меня на свете. Лишь Ковалевский, Березин и небольшой круг учёных в Казани пытались меня удержать рядом с собою, хотя бы учителем гимназии, да у них ничего не вышло.
Что ж, послужу и в Сибири, раз велят, однако я чувствую себя пушкою, которую на потеху зарядили для стрельбы по воробьям. А господа ученые, которые наперебой осыпали меня вопросами по своим изысканиям, пусть не ждут более от меня никакой услуги, довольно попользовались моими знаниями восточных грамот. Отныне им от меня никаких подсказок не будет. Справляйтесь-ка сами, коли я стал не нужен.
19 сентября. Четверг.
Теперь вкратце опишу мои приключения по возвращении из России в Сибирь.
Из Казани в Иркутск я прибыл 15 числа сего июня. Его высокопревосходительство в ту пору находился в поездке по губернии, однако для меня он оставил отпуск домой сроком до 20 сентября, с распоряжением выдать мне подорожную как находящемуся при несении службы. Вместе с тем мне передали несколько его заданий, кои я должен был исполнить за три месяца пребывания за Байкалом:
1) Провести смотр бурятских и тунгусского полков (хотя бы по одной сотне, на выбор, но не сводные). Обращать особое внимание на состояние лошадей, оружия, снаряжения и боевой подготовки казаков: стрельба из луков и ружей (что лучше?), строевые движения в колоннах и шеренгах, атака лавою и проч.
2) Истребовать от Кударинской, Баргузинской, Агинской, Хоринской и Селенгинской степных дум:
а) данные о посевах пшеницы, ржи, овса на текущий год.
б) сверки об исполнении поставки лошадей, овса, мяса и масла для Верхне-удинского и Селенгинского русских казачьих полков за 1849 год и шесть месяцев текущего года.
в) отчёты по ясачным недоимкам за 1848–1849 гг.
3) Провести в Селендуме расследование по жалобе бывшего тайши Ломбо-цэрэнова на нынешнего Вампилова на его притеснения и лихоимство.
4) В Селенгинске сделать визит к ссыльнопоселенным Торсону и Бестужевым, в Кабанске — Глебову, спросить, нет ли у них каких-либо жалоб.
Я с великою радостью пустился в путь к моим родным местам и продвигался почти без задержек на станциях, требуя ямских лошадей как чиновник особых поручений, которым должно подавать наряду с высшими лицами губернии.
Платье моё, купленное ещё в Петербурге, ношенное и в Казани, и по дороге через всю Сибирь, было довольно изношено, и я заметил, что станционные смотрители с некоторою подозрительностью оглядывают меня, когда я требую лошадей и предъявляю им казённую бумагу, удостоверяющую персону важного чиновника. К тому же мне предстояла встреча с родными и знакомыми, и нельзя было предстать перед ними оборванцем, посему в Верхнеудинских торговых рядах купил я себе новый вицмундир с петлицами, бельё и рубашки. Затем постригся у цирюльника, помылся в бане купца Курбатова, переоделся во всё новое, после чего увидал в зеркале вполне себе приличного господина. После побродил по городу, поужинал в ресторане на Большой улице и, переночевав в гостинице, утром другого дня двинулся дальше.
От переправы за Верхнеудинском пошли милые моему сердцу родные степи, кои я всю дорогу с нетерпением ожидал увидать, которые снились мне в чужом краю. И вот, не смея верить своим очам, я смотрел вокруг на буйно зеленеющие луга между горами, испещрённые яркими цветами, пасущихся лошадей, коров, стада коз, баранов, серые юрты вдали, у склонов сопок, и потихоньку утирал слёзы, вспоминая троих своих товарищей, коим не суждено было вернуться на родимую землю. Великая радость в моей душе была отравлена скорбью по друзьям, я вспоминал умиравших на больничных койках Дордже и Цокто, и то, как мы в последний раз обнялись с Гэрэлом перед тем, как со двора гимназии его увезли в солдаты.
В радостных и грустных чувствах я подвигался по отчему краю, смутно узнавая дорогу, реки и перевалы, через которые мы проезжали четырнадцать лет тому назад, отправляясь в Казань.
* * *
На второй день около четырёх часов пополудни я доехал до Селендумы, где меня встречали тайша Вампилов и атаман бурятского войска Цэрэнов (каким-то образом узнали о моём приезде, верно, они держат на ямских станциях своих людей, либо платят смотрителям, которые отправляют к ним коннонарочных с предупреждением о прибытии начальства).
Сих главных властителей над селенгинскими бурятами я не раз видел в прежние годы и теперь узнавал их по лицам, впрочем, довольно постаревшим.
Вампилов, в то время помощник тайши Ломбоцэрэнова (нынешнюю тяжбу между коими я должен теперь рассудить), приезжал к нам в войсковую школу в Троицкосавске за несколько дней до нашего отъезда в Казань. Он имел какое-то отношение к нашей отправке, произносил для нас напутственную речь и дал нам по серебряному полтиннику. И только! Когда мы опухали с голоду в Казанской гимназии, что довело до гибели троих из нас, ни Селенгинская дума, ни войско нам ничем не помогли! Если бы Ломбоцэрэнов и Вампилов распорядились отправлять к нам каждую весну хотя бы по туеску желтого масла, сушеного мяса и каких-нибудь трав для отвара, ребята не пропали бы даром. А корм у нас для казеннокоштных был таков: на завтрак полбулочки с квасом, в обед овсяная либо пшённая каша на воде, на ужин те же полбулочки с квасом. Сыты были те, кто ходил в гимназию из дома, и те, кому богатые родители присылали деньги, чтобы они могли покупать в лавке калачи и пряники. Смотрители повторяли нам, что учение всегда лучше идёт натощак, потому и святые, постигшие высшую истину, голодали. Однако мы видели, как их чада, учащиеся вместе с нами, лоснятся от жира и всегда носят в карманах свёртки с закусками, беспрестанно жуют что-нибудь, в то время как мы глотаем слюни, глядя на них. От голода зимами и веснами мы простывали и часто кашляли. Во втором классе схватил чахотку и помер Дордже Буянтуев, в третьем — Цокто Чимитов, подходила и моя очередь, я всё больше кашлял. Обращение директора гимназии в Селенгинскую думу и Бурятское войско с просьбою о вспомоществовании никакого ответа не имело. Нас спасло лишь то, что попечитель Казанского округа Мусин-Пушкин отправил нас с Гэрэлом Будаевым к ставропольским калмыкам для лечения кумысом. Позже, уже в старшем классе, пропал и Гэрэл: от того же проклятого голода ночью он вместе с другими гимназистами пошел в каморку сторожа варить кипяток. Даже подобная мелочь считалась у нас за тяжкое преступление, как нарушение высочайше утверждённого распорядка в императорской гимназии. К несчастью, в ту ночь дежурил смотритель Скорняков, злой цербер, вся жизнь которого сводилась единственно к тому, чтобы уловить гимназистов на каких-нибудь проступках и примерно наказать. Скорняков поймал их на месте преступления и, несмотря на уговоры простить, доложил директору и добился наказания розгами. Наказанные вскоре отомстили ему: подстерегли в тёмном коридоре и довольно сильно побили, отколотив лицо до синяков. Тот написал жалобу царю, происшествие не удалось замять внутри гимназии, всех участников дела судили и отправили в солдаты.
Атаман Цэрэнов приезжал к нам в Учётой вместе с есаулом сартулского полка на летний праздник за год до моего отъезда, и я хорошо помню, как он пьяный стоял перед строем казаков и ругал их за неряшливый вид, что не стригутся на русский лад, а заплетают косы, не понимают по-русски и проч. Про него говорили, что по нескольку раз в год гоняет казаков через границу воровать лошадей, а когда те однажды попались, Цэрэнов, вместо того, чтобы ехать и договариваться с маньчжурским пограничным начальством, заплатить отступное, отрёкся от своих казаков, мол, ведать ничего не ведаю, и пятеро молодых бурят были отправлены на каторгу в Нерчинский завод.
И вот сии господа стояли предо мною. Цэрэнов был одет в новый мундир казачьего штаб-офицера без эполет, с офицерскою саблей, а Вампилов — в шелковое монгольское платье с серебряным кортиком на красном поясе. Сняв шапки, они поклонились мне, как старшему по чину. Я глядел на них и ощущал странное чувство от происходящей метаморфозы. На меня испуганно взирали всемогущие властители Селенгинского края, пред которыми трепетало всё бурятское население, от одного слова которых зависели судьбы тысяч. Я из детства помнил, как взрослые и почтенные люди в улусе с оглядкою произносили их имена, а при известии, что приехал атаман или хотя бы полковой командир, все торопливою гурьбою выходили встречать, казаки строились под крики десятников, старшины почтительно кланялись и докладывали. Я и сам не раз бывал среди толпы встречавших. А теперь сии двое встречали меня с тем же почтением и подобострастием, с каким встречают их, и я воочию видел их испуг, их робкий трепет предо мною. Они старались выразить своё почтение и преданность, сквозь льстивые улыбки на их лицах виден был боязливый вопрос: «Чего нам от вас ждать, что вы с нами сделаете, какова наша участь?..
Какая перемена! Что же произошло?
А произошло вот что: они отправили нас, четверых невинных ребят в Казань, думая сделать из нас для себя учёных писарей, образованных слуг и рабов. Отправили и забыли до поры, думая, мол, если хороши будут щенки, то выживут, а пропадут, так и потеря невелика. Трое из четверых погибли, выжил я один, однако кончил не только гимназию, но и университет, сделался учёным кандидатом и стал для них неподвластен, и даже более того, вернулся к ним в лице всесильного начальника. Теперь я был хозяин их судеб, и хоть чином покуда не велик, однако помощник самого генерал-губернатора, и потому в их глазах посильнее, чем иной статский советник. И вот я стою перед ними и могу обоих отправить на каторгу. За что? — Найдётся за что, как только начну разбирать их бумаги.
Я смотрел на них с невыразимою злобою в душе, с моего языка так и срывался вопрос: как они могли забыть о нас, отправив на произвол судьбы в чужой город, и понимают ли они теперь, что жизни троих несчастных ребят, погибших в далёкой Казани — на их совести? Я хорошо видел, что они сознают свою вину — виден был страх в их глазах, голоса их дрожали, когда они представлялись мне.
Однако я сдержался от своего вопроса, зная, что с каждым из них впереди ещё много разговоров, и сейчас молча глядел, как они трясутся предо мною. «Верно, — думал я, — они сейчас молят Бога о том, чтобы я не очень глубоко копался в их бумагах и не узнал об их воровстве...»
Робкими голосами они пригласили меня в здание Селенгинской думы.
— Здесь, недалеко, — говорил Вампилов, кланяясь и заискивающе улыбаясь, — откушаете и отдохнёте с дороги...
Они задумали хорошенько напоить меня водкою и подружиться со мною, однако я холодно поблагодарил их и сказал, что спешу в дорогу. Они тотчас велели станционному смотрителю дать мне лучших лошадей и рессорную бричку, я же приказал Вампилову готовить отчёты по всем повинностям, а Цэрэнову — готовить свои полки к строевому смотру.
* * *
Юрты своих родителей и двоих женатых братьев я нашёл в четырёх верстах выше Учётойского дацана, неподалеку от того места, где мы летовали в последние годы моего пребывания дома. Добрался я до отчего дома около полудня.
Все меня ждали и давно готовились к моему приезду, понеже я ещё весною из Казани сообщал им в письме о моём новом назначении и обещал прибыть к ним в начале лета. Для меня была поставлена новая юрта рядом с родительскою, объезжен добрый конь под седло, чтобы я мог ездить по родне и друзьям, и, мало того, присмотрели невесту, чтобы женить.
И вот та наша встреча! Жарким днем, когда мой тарантас подъехал к родимым юртам, все выскочили с криками и бросились ко мне с объятиями. Лица родных я с трудом узнавал, все изменились, постарели, а не виделись мы почти 15 лет. Родители мои сильно одряхлели, двоих братьев было не узнать, а двоих не было дома — они стали ламы и находились при своих дацанах, один в нашем Учётойском, другой на Гусином озере. Шестеро подросших племянников бегали вокруг меня.
Тот день прошёл среди наших близких сородичей, урянхаев, живущих неподалеку, которые тотчас съехались к нам. Закололи овцу, перегнали архи и сидели родовым кругом. Я расспрашивал у них все новости, они расспрашивали о моём житье на чужбине, и до ночи мы не умолкая говорили обо всём подряд.
На другой день отец созвал гостей на пир, пригласив большинство офицеров нашего полка, сородичей и уважаемых людей со всей округи. Празднество шло на травянистом лугу в подножье нашей горы. Мне пришлось надеть свой вицмундир и сесть на почётном месте со стариками и командирами сотен. Прибыли старшие ламы нашего и Гэгэтуйского дацанов, начали молебен в честь моего благополучного возвращения из Казани. Более двух часов они читали молитвы с подношениями и обрядами во славу Цаган и Ногон Дара Эхэ, всех сахюсан и самого Будды. После началось собственно празднество, зажигались костры, молодые резали овец и тут же варили мясо в котлах, народ садился пировать. Поминутно ко мне подходили знакомые и незнакомые люди, соседи и люди из других улусов — учётойских, цагатайских, гэгэтэйских и иных, более отдаленных. Некоторых я узнавал, не переставая изумляться тому, как изменились все те, кого я знал прежде, постарели.
По старинному обычаю, перед взорами собравшихся юноши состязались в скачках, борьбе и стрельбе из луков, объездке жеребцов. Раздавались выстрелы из ружей и пистолей. С душевным трепетом я окунулся в свою родную, монгольскую стихию. Со слезами на глазах слушал наши старинные песни, протяжные и грустные, которые пели для меня женщины и девушки.
Гостей собралось не меньше трехсот душ, не считая молодежи, которые конными толпами кружили вокруг, разводили костры и веселились. Взоры всех были устремлены на меня, на лицах у всех сквозило такое удивление, словно они не верили, что видят доподлинно меня, которого знали прежде. Поминутно задавались мне вопросы о том, как я жил в чужих краях, какие там живут люди, какие племена и языки, и всякое тому подобное. Пораженно разводили руками, слушая мои рассказы о больших городах, высоких зданиях, о Кремлевской стене, каменной Неве, о житье в пансионе Казанской гимназии, о тамошних порядках, о науках, чему нас учили... Когда я рассказал им о калмыках, у которых я бывал в гостях ещё гимназистом, о том, как похожи они на нас и языком и обычаями, все были вне себя от изумления. Расспрашивали их историю, какими путями оказались там, на краю света.
Однако самым изумительным для всех было то, как это я, выходец одного с ними круга, казачий сын, инородец, смог достигнуть столь высокого чина и положения. Старики вспоминали офицеров и чиновников по особым поручениям, приезжавших в Троицкосавск и Селенгинск в разные годы — в 20-е, 30-е, говорили, что это были всё или немцы, или русские дворяне, вспоминали, как перед ними испуганно бегали наши тайши и атаманы. Им было не понять, каким это побытом младший сын Банзара Борхонова, пусть и пятидесятника, но человека одного их круга, взлетел на такую высоту.
— А ты можешь взыскать с нашего атамана или тайши? — допрашивали меня старики, пытаясь определить пределы моей власти. — Можешь ли ты снять их со службы?
— Снять их может лишь генерал-губернатор, — отвечал я, — но я могу доложить ему, способны или нет эти люди исполнять свою службу.
Они удовлетворенно качали головами:
— И это не малое дело...
— Понятно, что без губернатора не обойдется.
До утра шло гуляние, все по очереди произносили речи о моём благополучии и подносили подарки. Многие дарили мне лучших своих коней, серебряные и золотые деньги, ножи, сабли и пистоли. Я догадывался, что многие дают едва не последнее — от избытка чувств, разгоряченные вином — и уговаривал их взять обратно, однако они обижались, отказывались наотрез. Под вечер я стал владельцем целого состояния из трёх тысяч с лишним рублей, шестнадцати коней под сёдлами и полсотни кобыл, одиннадцати коров с телятами, ста восьмидесяти овец с баранами, двух больших юрт, одной рессорной телеги со всей сбруей. Из всего этого богатства я взял лишь деньги, которые дали богатые родичи, остальное попросил отца потихоньку вернуть их хозяевам после моего отъезда с выражением моей сердечной благодарности.
В продолжение всего пира от множества славных семейств, полковых сотен и почетных лиц произносились благопожелания по моему адресу, каждый говорящий подносил мне чашу арзы, а то и хорзы, которую не выпить было нельзя, дабы не обидеть его, и, разумеется, пир окончился тем, что меня на руках унесли в мою юрту.
На другое утро мы с отцом и братьями ездили к нашей священной горе, чтобы воздать духам предков и нашим древним богам, оттуда поехали в Учётойский дацан, вернулись домой к вечеру, и после я проспал почти сутки — до четырёх часов пополудни следующего дня. Никогда в жизни я не спал так долго и крепко — трижды меня пробовали разбудить и не смогли. Надобно сказать, что и все последующие дни пребывания в отчем доме я спал отменно долго — до 10 и 12 часов — видно, так я восполнял все мои недосыпания прежних лет в гимназии и университете.
Днями я проводил время в полнейшей праздности, мне не давали никакой работы, ни пасти овец, ни пригнать к подою коров: я ездил на коне без дела по степи, посещал места, где бывал в пору детства вместе с друзьями, вспоминая о былом, подолгу засиживаясь где-нибудь на пригорке, заезжал в гости к прежним друзьям, которые давно переженились и расселились со своими хозяйствами по всей округе, выше и ниже по Учётою, выпивал с ними архи. Всюду принимали меня как самого дорогого гостя, угощали и радовались тому, что я пожаловал в их дома. Я же, глядя на то, как они живут, слушая их разговоры, втайне ощущал нечто, похожее на разочарование и обиду за них. Живут же они, кто-то сколько-нибудь достаточно, а кто-то и бедно, по старинному обычаю, как жили деды и прадеды, и, видно, что такое же житие уготовано их детям и внукам. Служба царю, караулы на границе, скотина, юрта, перемена пастбища, вот и всё. По мне всё это скучно и бессмысленно — жить без высокой цели, без желания достичь в жизни больших свершений, новых открытий. Я стал было рассказывать им о том, как живут немцы на Волге, как калмыки начали перенимать у них ремесла, строят у себя конные заводы, кожевенные фабрики, маслобойки, о том, что надобно и бурятам самим создавать промыслы, выделывать собственное сукно, сапоги, хомуты, самим ездить на ярмарки в Верхнеудинск, вместо того, чтобы покупать втридорога всё это у заезжих купцов, что надобно открывать у себя на Учётое и Цагатае школы, учить всех детей и самим учиться грамоте и русскому языку, дабы лишить купцов и чиновников способов их обманывать. Но увы, к великому своему изумлению я встречал у них глухое несогласие, полнейшее непонимание. Супротив моих слов выступали даже мои братья.
— Главное наше занятие и богатство, — говорил мне старший брат, — это скот. А за школу надобно платить, дети будут оторваны от хозяйства, а им с лошадьми и коровами не по-русски разговаривать, а что до ремёсел — все рукодельники, эти бондари и столяры — пьяницы, заведи у нас какой-нибудь завод, так все и сопьются.
В том же духе говорили все другие, с кем я ни заводил подобный разговор.
— На ламу учиться, это другое дело, — сказал мне один старик. — Мы живём по законам Будды, и чтобы знать их, молиться правильно, нужно чтобы кто-нибудь из детей учился на ламу. А в русскую школу отдашь, дети отдаляются от своих, становятся чужими, а пользы от этого мало. Ведь с купцами в год раз или два говоришь, купишь, что надо, через толмача, и довольно этого.
Я ему сказал:
— Посмотрите на меня, я был такой же, как все наши юноши, а стал чиновником у губернатора, и всё благодаря постижению грамоты и наук.
Он же ничтоже сумняшеся отвечал мне:
— Ты один такой, а на всех чинов не хватит, побегут все в школы, обманутся, ни с чем останутся. Ты уж не мути им головы, коли не хочешь, чтобы они заблудились в жизни, потерялись среди русских.
Потом он добавил:
— А ты сам, по глазам твоим видно, не очень доволен своею жизнью. И не женат до сих пор, видно, что тоскуешь.
Это же — что я не счастлив своей участью — замечали мне многие (видно, шила в мешке не утаишь), намекали мне в разговорах. Хотел бы я объяснить им, что наивысшее счастье моё было в учёных изысканиях, а сделав меня чиновником, отобрали моё счастье. Однако знал я, что меня они не поймут, потому молчал об этом. Да и без того мы уже не могли друг друга понимать, о чём бы ни заговорили — сплошное противуречие, с братьями иной раз спорили до хрипоты и расходились, обиженные друг на друга.
С горечью я осознавал, что нет уж между нами тех тонких нитей сердечного родства, что были прежде: и они, и я давно разошлись по жизни, идём розными путями, далёкими друг от друга. Когда я им втолковывал, что спасение нашего племени только в том, чтобы быть на голову выше других в знаниях и владении ремёслами, что надобно открывать школы, строить у себя в улусах заводы, учиться торговать, увеличивать хлебопашество, выращивать овощи, яблоки и груши, они усмехались надо мною, говоря, что отдаление от жизни предков — гибель. Ладно бы, отец и мать, старые люди, но даже и братья, двое из которых ламы, были решительно против меня. И я с каждым днем, глядя на них, убеждался, как тяжело будет пробудить в них тягу к свету, к лучшей жизни. Мне с высоты моих знаний явственно видно, что стоит им сделать лишь некоторые усилия: открыть школы, позвать китайцев и научиться у них сажать сады и огороды, открывать кожаные и шерстяные мануфактуры, столярные, гончарные, тележные и другие заводы, как через несколько лет жизнь изменится, пойдёт торговля, у людей появится множество способов разбогатеть. Но темнота людей и неверие во всё, чего они не ведают, наглухо закрывают им все пути.
* * *
Дома у родителей я пробыл полмесяца и уже тяготился общением с ними. Единственная отрада моя была в том, что повидал их, повидал родные места, вдоволь наелся мяса, белой пищи, отдохнул и набрался сил. Растолстел я так, что перед выездом едва влез в свой вицмундир.
Перед тем, как уехать, я оставил отцу все деньги, подаренные мне сородичами с тем, чтобы они пошли на открытие школы для детей в Учётое, подобной Атамано-Николаевской, чтобы дети не ездили так далеко от дома. Отец взял деньги, но вместо них вручил мне тысячу рублей кредитными билетами.
— Откуда это? — спросил я, поражённый подобным богатством в руках отца, жившего едва ли достаточно.
— Это тебе подарок от войска и думы, — сказал отец. — Они мне прислали через неделю после твоего приезда.
— Я не возьму взяток! — наотрез отказался я. — Так и передайте им, что я не продаюсь.
— Это подарок, — возразил отец. — В уважение к тому, кем ты стал. И я бы не взял их, ежели бы мне сам атаман не передал это на словах. А от подарков не отказываются, если дающий тебе не враг и подаёт от доброго сердца. Коли не возьмёшь, могут подумать, что брезгуешь, возгордился или хочешь, вступив в должность, расправиться с ними.
Обуреваемый сомнениями, я взял те деньги.
10 июля я распрощался с родными и выехал из родительского дома. Меня на тарантасе довёз до Селендумы старший брат.
Перед тем, как проститься, он мне сказал:
— Ты слишком много думаешь о других, а по буддийскому учению каждый получает по своим заслугам. Не забывай об этом.
— По тому же буддийскому учению, желая другим лучшего, я накапливаю свои заслуги, — улыбнулся я в ответ.
Sic!









