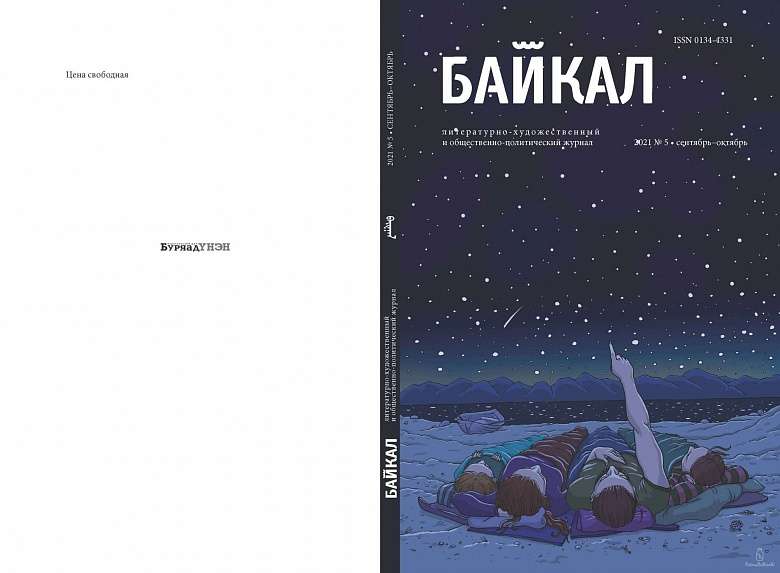
Козин Александр Захарович родился в с. Турунтаево Прибайкальского района в 1951 году. Окончил Иркутский госуниверситет. Член Союза журналистов России. Автор нескольких краеведческих книг, а также сборника стихов и рассказов. Награждён Почётными грамотами Министерства культуры Бурятии и Министерства культуры РФ.
Колодец
— Ну вот, значит, шёл мужик мимо колодца. Настроение хорошее, солнышко светит, душа радуется, птички поют — благодать Божия! Подошёл мужик, значит, к колодцу да и крикнул туда: — Аа! А в ответ ему: — Бэ! Он туда: — Вэ! А ему: — Гэ! Заглянул тогда мужик в колодец и удивился…
Тут дед Матвей как всегда неожиданно, по своему обыкновению, замолчал, вроде что-то припоминая, а потом начал рассказывать совсем другую историю. У него так частенько случается: в середине рассказа, обычно на самом интересном и захватывающем моменте, он как бы теряет мысль или нить повествования и либо продолжает рассказ, оставив за кулисами несколько событий и продолжая из другого места, либо вовсе начинает излагать другую историю. Либо просто засыпает, и тогда вернуть его к уютной беседе у костра нет решительно никакой возможности. Пока не проспится и не продолжит сам, как ни в чём не бывало, иногда даже так удачно, что именно с оборванного полуслова.
Одним словом, дед был ещё тот, а нам, молодым лэповцам, в то время его рассказы заменяли и телевизор, и радио, и компьютеры, о которых мы тогда и слыхом не слыхивали. Молодые и здоровые, мы могли в то время весь тёплый летний вечер просидеть своей бригадой у костра с одной лишь бутылочкой водки, выпивая из кружки, которая неспешно ходила по кругу и делала разговоры откровенней и задушевней. Это было, кажется, году в тысяча девятьсот шестидесятом, может, чуть раньше или позже. Мы в те времена прошли пол-Сибири, строя линии высоковольтных электропередач и зарабатывая на электрификации просторной окраины по тем временам немалые деньжищи.
Дед Матвей с некоторых пор стал к нам наведываться из соседнего села, благо, что жил на окраине Покосного. Ну да, того самого, о котором поётся в песне: «А вокруг у села Покосного хороводят берёзки с соснами, и пускай тот, кто не был в Лэпии, завидует нам». Мы Пахмутову любим — она в те годы написала много хороших песен: и про Братск, и про Усть-Илим, и про Иркутскую ГЭС, и про Ангару…
Дед Матвей много побродил по белу свету, пока не осел в Покосном: начиная с двадцатых годов, сразу после Гражданской, он освоил строительство колодцев, а поскольку мастеров таких было мало, то и заказы сыпались изо всех ближних и дальних деревень. Работы хватало от весны до поздней осени, и так каждый год.
Строить колодцы — особое искусство, тут многое нужно знать. И где вода находится, какой глубины делать шахту, чтобы среди зимы или по весне вода не ушла; какую древесину подобрать для сруба, чтобы он простоял лет пятьдесят, не сгнивая; как укрепить подводную часть, чтобы она не осела и не разрушилась. А то ещё раньше делал журавлики — большей частью ими доставали воду из колодцев в деревнях, это много позже стали делать срубы с воротом, на который наматывалась цепь с ведром. Опять же цепь нужна хорошая, сталистая, чтобы ржавчина не портила воду. Чтобы вода всегда была чистой и студёной, на дно колодца надо положить слой речного песка, сверху присыпать его галечником. В общем, много было хитростей и секретов, которые теперь, пожалуй, никому не нужны: даже на дачах стали забивать трубы и устанавливать насосы, так что обходятся без колодцев. И всё-таки колодец — это не какая-то там ржавая труба или бетонный ствол, это поэма, сказка, романтика!..
Сколько с колодцами связано былей и небылиц! Дед Матвей знал их бессчётно и мог рассказывать неделями. Мы слушали, как заворожённые. Однажды поведал он малоправдоподобную историю из своей практики, предупредив, однако, чтобы мы не смеялись, потому что ничего он не придумывал, а рассказал всё, как случилось.
Было это в середине или в конце тридцатых годов, время трудное и непростое. Хотя, с одной стороны, жить стало веселее — позабылись тяготы и беспредел революции и Гражданской войны, голод начала тридцатых. Матвей в те годы уже не был подмастерьем, работал самостоятельно. Однажды пригласили его в деревню Н. (тут дед сделал строгое лицо и отметил: «Не буду называть, какую»). Молодые хозяева построили хороший дом, баню, стайки, а вот соорудить колодец сами не смогли — пригласили Матвея как самого известного мастера в округе.
— Дед, а ты видел звёзды из колодца? Говорят, даже ясным днём из колодца видны звёзды? — спросил кто-то из сидевших у костра.
— Нет, не видел ни разу. Враки всё это про звёзды, только кусочек неба видно, такого же синего. Но я видел кое-что поинтереснее, но не на небе, а в глубине колодца. Вот слушайте.
Сговорились мы, значит, о цене, столовался я у них, место мне отвели в сенях, в кладовочке поставили топчан, по летнему времени нормальное жильё. Со мной работал, правда, ещё пацан лет тринадцати-четырнадцати — подмастерье, его отправили на сеновал. Пацана Спирькой звали, Спиридон, значит, по-взрослому. Одному-то несподручно рыть колодец, надо ведь отвал кому-то подавать, ну там и самому подняться-спуститься помочь надо, да мало ли что?
Вот, значит, докопался я до водоносного слоя, это метра четыре с лишком будет, смотрю: земля подо мной мокреть начала — значит, скоро вода наберётся в мою ямину. И тут копнул я ещё немного сбоку, а оттуда — не поверите! — золото и каменья драгоценные посыпались как ручьём! Я опешил: что делать? Время было строгое, меня и без того уже несколько раз милиция задерживала — не шпион ли? Почему по деревням ходишь, место жительства постоянно меняешь? Запросто в те годы мог загреметь в лагеря. Говорят же — не всякой находке радуйся! Потому и решил от греха подальше не трогать это богатство, а прикопать его поглубже, чтобы с водой кто не поднял случайно наверх.
— Дядь Матвей, чо там у тебя такое? — сверху спрашивает мой помощник.
— Да так, потом скажу, подымай наверх!..
Когда закончили работу, я в последний вечер рассказал Спирьке, что обнаружил на дне колодца. Подмастерью моему было невдомёк, почему я это отказался от такого богатства:
— Ведь можно было за эти деньги безбедно прожить до скончания века…
— Ага. Если бы сам не скончался раньше срока…
Вскоре мы получили расчёт и ушли в другую деревню на заработки, только я не знал, что перед уходом Спирька рассказал хозяину дома о том, какой клад таится в его колодце.
…Летний сибирский вечер набирал крепость: вокруг стало темно и прохладно. Дед Матвей молчал, глядя на золотые язычки пламени, и явно думал о продолжении истории, потому что хитро улыбался и неодобрительно качал головой. Зная характер нашего знакомца, ребята стали упрашивать старика:
— Ну, дед, не томи, ты ведь знаешь, чем закончилась история с колодцем?
— Знаю, как же. Года через два мы снова оказались в той деревушке.
— И что же там?
— А вот что. Слушайте…
Пришли мы со Спиридоном к тому месту, где раньше строили колодец, а дома-то и нету — одни обгорелые останки от него. А колодец наш стоит, цел и невредим, только сруб сверху заколочен напрочь.
Стали мы расспрашивать тогда, что же случилось с хозяевами, и соседи поведали жуткую историю. Такие чудеса, что дыбом волоса. За что купил, за то и продаю.
После нашего ухода спирькины слова про клад никак не давали покоя хозяину — всё думал, как добыть этакое богатство, прямо под носом у него хранящееся. И ведь как оно оказалось на такой глубине-то? Какой дурак будет копать яму в несколько метров, чтобы спрятать драгоценности? Загадка!
Думал-думал мужик и придумал: подцепил вместо ведра к журавлику нечто вроде поддона; сам журавль утяжелил дополнительным грузом, чтобы человека сподручнее было спускать-поднимать; приготовил мешок, самодельный сачок из дуршлага, примотанного к черню от лопаты; ведро привязал к длинной веревке, а бабу свою поставил помощницей. Спустился в колодец, а вода в нём небольшая была — с метр или чуть больше глубиной. Сунул свой дуршлаг в воду, чуть пошурудил им, и вот уже что-то блеснуло в полумраке сквозь слой воды. Черпнул и вынул поближе своё орудие — мать честная! Там золотые монеты, какие-то камни разноцветные блестят, переливаются.
Крикнул мужик бабе своей: спускай, мол, ведро на веревке. Наполнил его драгоценностями и отправил наверх. «Там в мешок сразу ссыпай, чтоб никто не увидел ненароком!» — это он бабе наказал. Набрал второй раз ведро, потом третий. Потом попробовал копнуть ещё — нет, ничего, вроде бы, нет. Решил подниматься. Оказалось, набрал сокровищ почти полмешка, пуда три с гаком будет. Решили спрятать клад в амбаре. Вечером заснули, уставшие, но довольные.
— Ну, дед Матвей, ты даёшь — кто же клады по три пуда зарывает, да ещё на такую глубину?! — раздался у костра голос одного из скептиков.
Мы же тогда коммунизм строили, все были атеисты и в сказки разные не верили. Сказка, вот она — вся Сибирь в электрических огнях и электропоездах…
— Попал пальцем в небо, да в саму серёдку, — возразил дед Матвей. — Не любо — не слушай, а врать не мешай. Не хочешь слушать, как врут другие, ври сам.
Старик обиженно замолчал.
— Да ладно, не обращай внимания, дед. Рассказывай дальше, интересно же, чем всё кончилось. На-ка вот, смочи горло, — протянули мы деду Матвею кружку с остатками водки. Дед выпил и продолжал:
— Ну вот. Спят, значит, молодые, а среди ночи вдруг шум какой-то в сенях и мерзкий такой звук угрожающий — не рычание, а что-то похожее на соболиную угрозу. Соболь ведь, не смотри, что маленький, а очень свирепый зверь. От его рычания мороз по коже. Так вот, это было похоже на соболя, или на медведя, но послабее медвежьего, угрожающий такой звук — страшно! И давай эта невидимая тварь дверь грызть, да так, что вскорости образовалась дыра такая, что и морда стала видна крысиная. Только крыса была раза в три больше обычной. Баба посноровистей, видно, была — на стол вскочила, где лампа стояла керосиновая. А мужик на кровати от ужаса застыл, потому что эта крысиная тварь не одна была, а за ней протиснулись в отверстие ещё с десяток мерзких чудовищ. И бросились все на мужика, в несколько минут разорвав ему глотку и залив всю постель кровью. Баба в ужасе была, но самообладания не потеряла — схватила лампу, открутила с неё головку с фитилём и бросила горящий фитиль на пол, а следом вылила из лампы весь керосин. Огонь занялся знатный, так что все крысы быстренько выскочили из дому, а баба, чтоб самой не сгореть, накинула на себя одежонку и выбежала следом. Дом уже весь был объят огнём, так что вокруг стало светло как днём. Крыс нигде не было, и только из колодца доносилось их мерзкое рычание, потом и оно стихло.
Соседи проснулись, бросились дом тушить с вёдрами и баграми, но где там! Сгорел дотла. А вот амбар с сокровищами остался цел. Баба посмотрела — сокровища на месте, только мало радости было от этого: она поняла, что ночное нападение крыс как-то связано с этим кладом.
Утром явилась комиссия во главе с милиционером, чтобы выяснить все обстоятельства ночного происшествия. Сначала стали подозревать бабу в убийстве мужа и попытке с помощью пожара скрыть свою вину. Но баба повела их в амбар и показала клад. Ошарашенная комиссия стала осматривать сокровища и составлять акт. Но пересчитывать все камушки и монеты было бы нереально — месяц бы сидели, составляя акт. Решили написать общий вес — получилось три пуда с лишком. Опечатав ценный груз, вызвали сотрудников НКВД, и только в их сопровождении милиционер согласился везти ценный груз в городское отделение Госбанка. Два сотрудника НКВД и милиционер часа через полтора после осмотра места происшествия были уже в городе. Управляющему банком предъявили акт на три пуда сокровищ и опечатанный мешок. Тут же вскрыли мешок, чтобы уже официально подтвердить изъятие клада. Но в мешке оказались только крысиные какашки, серо-чёрный помёт, издававший отвратительный запах.
Говорят, энкавэдэшников и милиционера арестовали, обвинив их в присвоении клада и долго пытали, так ничего и не добившись. Дальнейшая судьба их неизвестна, а баба куда-то уехала из деревни. Местные жители, напуганные этой историей, наглухо заколотили злосчастный колодец…
Посиделки наши у костра уже подошли к концу, завтра всем рано вставать, да и дед засобирался домой — в деревне загорелись огоньки. В темноте казалось, что они совсем рядом. «Близко видно, да ногам обидно», — сказал дед Матвей, сделав шаг в сторону от догоравшего костра. Скоро он растворился в темноте, будто его и не было.
Огурец
Детство моё прошло в деревне, состоявшей из двух неодинаковых частей. Одна — древняя, населённая по большей части семейскими, ими и основанная. А вторая, совсем молодая, прилепившаяся к основной, была участком леспромхоза, который в шестидесятые годы имел свои филиалы во многих населённых пунктах района, окружённых вековой тайгой, лесов в которой хватило на несколько десятков лет безудержной, технически оснащённой вырубки.
Жители двух частей одной деревни отличались друг от друга разительно — настолько не похожи были ни их образ жизни, ни взгляды на самые обыкновенные вещи, ни манера одеваться и говорить. Казалось, живут два разных народа. Впрочем, отчасти так оно и было. Дело в том, что на лесоучастке, в отличие от сплошь семейской деревни, жили «дети разных народов» — здесь были литовцы, азербайджанцы, украинцы, белорусы, татары, казахи, буряты и, конечно, русские. Этот интернационал по роду деятельности и образу жизни был пролетарским: люди приезжали и уезжали целыми семьями, жили в домах и квартирах, предоставленных предприятием, особо не держались за эту землю и без сожаления расставались с ней. К тому же многие из них были ссыльные. Собственно, и просуществовал участок леспромхоза около полувека, и к началу девяностых почти полностью развалился, осталось доживать свой век только несколько семей.
Семейские жили в собственных домах, к которым прилегали огромные по тем временам усадьбы с покосами, огородами, банями, колодцами, стайками и загонами для скота, амбарами, где хранились запасы-припасы и разная старинная рухлядь. В домах, даже в годы самого воинственного атеизма, оставались в переднем углу иконы, хотя одно время по домам ходили агитаторы и депутаты сельсовета и требовали убрать эти свидетельства отсталости и сопротивления прогрессу. Никакие доводы, что Гагарин летал в космос и не видел там Бога, не могли переубедить упрямых старообрядцев, которые и при старом режиме не были в чести у власти.
Особенно заметна была разница между семейским и, условно говоря, советским селом во время праздников, самым массовым из которых, как ни странно, была в те годы Пасха.
Семейские бабы в эти дни надевали свои лучшие сарафаны, которые отличались особенной пестротой и яркостью, надевали янтарные бусы в два-три ряда (некоторые бусины были величиной крупнее куриного яйца!), на голове — кичка, на ногах — мягкие сафьяновые сапожки или ичиги.
Женщины пролетарские, независимо от национальности, форсили на праздники в платьях из панбархата или крепдешина, плюшевых жакетках и платках всевозможных расцветок. Любопытно, что в рабочие будни форма одежды тех и других была почти одинаковая — ватные телогрейки с большими чёрными пуговицами во всю длину запаха и простенькими косынками либо шерстяными платками.
Семейские были рачительными, прижимистыми хозяевами, за многие годы гонений привыкшими хитрить и экономить, и никогда не переставали торговать. Продавали всё, что давало им домашнее хозяйство: молоко, мясо, яйца, шерсть, зерно, овощи, высушенную и молотую черёмуху и многое другое.
В магазинах в те времена было негусто, а у семейских можно было купить практически все продукты, даже омуль и другую рыбу, что они привозили от родственников с берегов Байкала.
Пролетарии относились к соседям не без зависти, но с некоторым пренебрежением, называя семейских куркулями и единоличниками. Надо сказать, что во времена всеобщей коллективизации клеймо единоличника было самым неприятным и распространённым ругательством на селе. В общем, старинная деревня и, условно говоря, пролетарский город были почти полными антиподами.
Тем не менее, мирное сосуществование их приносило обоюдную пользу.
Был у нас на лесоучастке, рядом с продуктовым магазином, небольшой «базар» — двухметровый прилавок с навесом над ним. Там и происходил обмен леспромхозовских длинных рублей на продукты семейского полунатурального хозяйства.
Чаще других на этом базаре появлялся со своим товаром Кондратий Калмынин. Наверное, потому что дом его стоял на самом краю деревни, как раз на границе с леспромхозовским участком. Летом дети пролетариата очень досаждали ему своими набегами на огород и ягодные кустарники. По осени ему приходилось с дробовиком охранять свои урожаи ранеток, черёмухи и облепихи от нахрапистых любителей поживиться за чужой счёт.
Усадьба Кондрата доходила до самой реки, так что изгородь стояла у самой воды — получалось, что небольшой участок реки был им как бы приватизирован. Приближаться к усадьбе Кондрата было опасно — того и гляди, схлопочешь заряд соли в мягкое место.
В прежние годы с оружием и его применением не было такой строгости, как сейчас. Помню, мой младший брат Алексей, в свои четырнадцать лет пристрастившийся к охоте, преспокойно купил в районном универмаге ружьё — «мелкашку» 32-го калибра и патроны к нему, не предъявляя при этом никаких документов…
В начале зимы Кондрат на «своём» участке реки делал прорубь, куда спускал до весны одну-две здоровенных бочки солёных огурцов, которые всю зиму сохраняли в холодной проточной воде свои первоначальные свойства. Весной Кондрат доставал эти бочки из проруби и торговал своими знаменитыми огурцами на нашем пролетарском базаре — его овощ обычно шёл нарасхват.
В один из мартовских дней я от нечего делать слонялся по улице — шли весенние каникулы, я учился тогда во втором или третьем классе. Мне несказанно повезло: на дороге нашёл трёхкопеечную монету! Эх, ещё бы две копейки — можно было бы вечером сходить в кино. Но трояк — тоже хорошо. Я направился на базар, где стояли аж две телеги.
Одна — старьёвщика, который уже раскрыл свой сундучок с разными красивостями вроде разноцветных воздушных шариков, разных бус и заколок, дешёвых колечек, мелких игрушек и каких-то диковинных сувениров, разложенных по ящичкам на крышке и на дне сундучка. Сказочное богатство это старьёвщик обменивал на ржавые консервные банки, старые кости животных, битое стекло, разное тряпьё и макулатуру.
Вторая телега была с небольшим бочонком, возле которого стоял Кондрат и предлагал свои огурцы по пять копеек за штуку. Покрутившись возле старьёвщика и, сожалея, что у меня нет так необходимого ему барахла, я стал приглядываться к аппетитно зеленевшим огурцам в бочонке Кондрата. Достав из кармана свою трёхкопеечную монетку, я протянул её Кондрату. Он затряс своей чёрной и длинной бородой с проседью:
— Нет, малец, огурцы у меня по пять копеек, а у тебя только три! Больше нет денег?
Я отрицательно покачал головой и с надеждой посмотрел на бочонок:
— А, может, у вас есть поменьше, за три копейки?
— Нет, у меня огурцы все как на подбор, любо-дорого посмотреть!.. Иди, попроси у мамки, может, она тебе даст ещё две копейки?..
Я удручённо покачал головой: нет у мамы денег, и эти она мне не давала, я нашёл их.
Кондрат покряхтел немного и сказал:
— Ладно, попробую тебе найти огурец поменьше…
Он засучил рукав рубашки, накинув тулуп на плечи, и стал искать в бочонке трёхкопеечный огурец, но все, как назло, попадались пятикопеечные, слишком большие. А торговать себе в убыток Кондрат явно не хотел.
Наконец, лицо его засияло от удовольствия — он таки обнаружил подходящий огурец, правда, тот был значительно меньше своих собратьев. Зато, наконец, Кондрат мог себе позволить порадовать мальчугана и сделать доброе дело:
— Давай свои три копейки, держи огурец, — сказал Кондрат, сияя, как медный таз, лицо его раскраснелось от удовольствия.
Я взял огурец, который приятно хрустнул на зубах и обдал язык ароматным рассолом и терпким вкусом настоящего домашнего деликатеса. Ничего вкуснее я, наверное, не едал, и вряд ли уже теперь придётся.
Но через минуту от огурца осталось только лёгкое послевкусие, в кармане не было уже моего трёхкопеечного богатства, и разом стало грустно: может, лучше было бы достать ещё пару копеек и сходить вечером в кино?! Поздно. Огурец съеден. Может, попробовать поискать где-нибудь стеклянные бутылки или банки и сдать их магазин, там тоже за них дают деньги? Или насобирать чего-нибудь старьёвщику, пока он не уехал? Хотя точно уедет, пока найдёшь барахло для сдачи. Я оглянулся на Кондрата — у него уже покупали огурцы несколько счастливчиков, у которых были пять или больше копеек, и он щедро нахваливал свой товар.
Варежки
Катька Волынина нравилась мне с первого класса. Не только потому, что была отличницей и самой красивой девочкой в классе, это само собой разумеется. Но она никогда не насмехалась надо мной, когда другие смеялись, никогда не отказывала, если я попрошу карандаш или ручку, и даже списывать иногда позволяла, если я не сделал домашнее задание, — за несколько минут перемены я успевал перекатать себе в тетрадь одно-два решения или упражнение по русскому. Мы не сидели за одной партой, даже наоборот — её парта была в начале первого ряда, а моя — в конце третьего. Это если говорить о шестом классе, когда случилась с нами неприглядная история.
Катя у нас была санитаром класса. Она носила на левой руке белую повязку с красным крестом, а на фартуке у неё красовался значок с таким же крестом и надписью «Школьный санпост». Не знаю, есть ли теперь в школах такая должность среди активистов-учеников. Волыниной поручалось на протяжении года следить за санитарным благополучием одноклассников и каждый день записывать результаты в особую тетрадь, отмечая состояние наших ушей, шей, волос, рук и одежды. Уши грязные — минус балл, шея не мыта — тоже, волосы или ногти не стрижены — ещё минус, одежда неопрятная — снова минус. Не знаю, как кому, а мне Катя всегда ставила плюс. Даже если у меня не всё в порядке с одеждой или руки грязные — всё равно ставила маленький такой, стеснительный плюс.
Однажды, в конце второй четверти, наша одноклассница Дуся Чернецова пришла в школу в новых варежках. Мало ли какие бывают у девчонок обновы? Пацаны даже и не заметили бы, если б не одно но. Девчонки, не переставая, восторгались этими варежками, просили примерить и глядели на себя в зеркало, прикладывая обе ладони к лицу, чтобы в рамке отражались эти бесподобные варежки, которые, как они считали, делали обладательницу настоящей королевой. По-моему, они преувеличивали. Варежки как варежки. Может быть, чуть красивее, чем у других: малинового цвета с фиолетовой резинкой, поверху обшитые сияющим бисером разного цвета, и связаны они из какой-то очень пушистой шерсти — может быть, мохера или ангорки, теперь уже не помню.
Дуську девчонки забросали вопросами — где купили? сколько стоят? хорошо ли греют? а поносить дашь? — и прочими благоглупостями, на которые женский пол горазд. Так было два дня подряд, а на третий…
На большой перемене примчалась взбудораженная классная дама Евдокия Петровна и приказала срочно собрать всех. Когда все уселись на свои места, Евдокия Петровна поднялась из-за учительского стола и начала тоном, не предвещавшим ничего хорошего:
— Ребята, вы все уже достаточно взрослые, чтобы понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Так вот, вчера у нас в классе произошла кража. Да. У Дуси Чернецовой пропали из портфеля варежки. Кто это сделал? Лучше сознайтесь сразу, отдайте варежки, и мы забудем об этом инциденте.
В классе воцарилась гробовая тишина. Евдокия Петровна испытующе осмотрела поочередно каждого, пытаясь, видимо, на лицах прочитать некое смущение или ещё какие-либо признаки виновной души. Но большинство смотрело безукоризненно честными глазами, даже как бы демонстрируя — «Мне нечего скрывать». Другие, напротив, сидели, опустив глаза и боясь взглянуть на грозную классную руководительницу. Не подозревать же их всех.
И тут меня осенило: вчера, когда на перемене я заглянул в класс в поисках товарища, там была одна Катя — она что-то быстро спрятала в свой портфель, я только успел заметить нечто блестящее малинового цвета. Неужели Волынина? Я не мог себе представить, что вот сейчас её, примерную ученицу и пионерку, выставят на позор перед всем классом.
Глянул в первый ряд — лица Катькиного я не мог видеть, она сидела далеко впереди, опустив голову.
— Ну что? Так и будем играть в молчанку? Я ведь не отпущу вас, пока виновный не сознается, весь класс будет страдать. Взять чужое хватило смелости, а сознаться — нет?..
Евдокия Петровна сделала жутко длинную паузу, в течение которой ещё раз окинула всех взглядом. И тут я не выдержал, поднял руку:
— Это я, Евдокия Петровна…
— Выйди сюда к доске, Касимов.
Я вышел и встал рядом с учительским столом.
— И как же ты, Игорь, допустил такое безобразие? Воровать вообще плохо, а у своих друзей тем более…
Класс загудел, посыпались предложения: от девчонок — исключить из пионеров, от парней — набить морду. Я стоял, понурив голову, краска стыда залила лицо, хотя уж сам-то я точно знал, что ничего не крал. Но когда против тебя тридцать человек, да ещё так единодушно негодуют, лучше провалиться сквозь землю, лишь бы не видеть этой всеобщей ненависти. И только один человек не разделял единодушного мнения — это Катя Волынина. Она сидела за своей партой, не поднимая головы.
— Волынина. Ты, как председатель совета пионерского отряда, что думаешь об этом поступке Касимова?
Катя встала из-за парты и тихо сказала:
— Не знаю.
— Нужно быть принципиальной, Катя. Тебе доверили руководство отрядом, ты и должна первой предложить решение.
Катя молчала. Евдокия Петровна поправила очки на носу и продолжила:
— Ну, хорошо, садись. А ты, Касимов, встань в угол, будешь там стоять сегодня до конца уроков. Вынь руки из карманов! Руки по швам. Вот так… Завтра решим, что с тобой делать. И не забудь принести утром варежки!..
Тут зазвенел звонок, Евдокия Петровна помчалась на урок в другой класс, а ко мне угрожающе приближалась группа парней. Но в дверях появилась математичка, и я был спасён от расправы, по крайней мере, на сорок пять минут…
Насчёт «принести варежки» — я этого, конечно, не ожидал. Что же я скажу завтра? Ведь у меня их нет. На следующей перемене синяк я, конечно, схлопотал от одноклассников, так и простоял с фингалом до конца смены.
Назавтра экзекуция продолжилась. Евдокия Петровна примчалась в класс ещё до начала первого урока и сразу начала с приказания:
— Касимов, встань! Варежки принёс?!
— Нет.
— Почему?
— Я… Я их сжёг в печке, здесь же, в школе…
— Зачем?
— Не знаю.
Дальнейший допрос не дал никаких результатов, а после уроков назначили пионерский сбор. Не хочу даже вспоминать о наказаниях, которые придумывали мои добрые одноклассники, но до крайней меры — исключения из пионеров дело не дошло, хотя такие предложения были. Евдокия Петровна всё же решила применить свой педагогический авторитет и спросила наиболее ярых сторонников этой идеи:
— А вот сознаться в плохом поступке — это хорошо или плохо? Наверное, не каждый бы смог. А Касимов смог. Значит, он не совсем плохой пионер, ведь признание своей ошибки — это путь к исправлению. Правильно, ребята? Ну, вот… Катя, что же ты? Веди пионерский сбор! — И Евдокия Петровна продиктовала:
«Кто за то, чтобы оставить Касимова Игоря в рядах пионерской организации?..».
Катя обречённо повторила её слова и все проголосовали. Единогласно. Из школы мы шли с Катей вместе. Поначалу разговор не клеился. Потом я спросил напрямик:
— Это ведь ты, Катя? Я же видел…
Она утвердительно кивнула головой.
— И куда же ты их дела?
— А я, правда, сожгла их в печке в тот же день, когда ты увидел, что я прячу в портфель.
— И зачем ты их взяла? Ты что, думала, будешь их носить?
— Нет, конечно.
— Тогда зачем?
— Не знаю.
— Дура ты, Катька! — сказал я со смехом, и она согласилась:
— Точно, дура, — сказала она и засмеялась сквозь слёзы.
Инвентарная Галя
Менты, по их ориентировкам, задержали меня на вокзале как сбежавшую из дома и определили в детскую комнату милиции. В детскую — потому что несовершеннолетняя, мне только недавно исполнилось шестнадцать, а я уже третий раз сбегаю из дома. Школу я бросила, родителей ненавижу больше, чем учителей, и как теперь жить — не представляю. В довершение ко всему мой парень связался с моей бывшей лучшей подругой, и теперь у меня ни парня, ни подруги. Зашибись!..
Сижу вот на продавленном диванчике в детской комнате милиции, напротив меня, за обшарпанным светло-желтым фанерным столом, — девица в милицейской форме, кажется, лейтенант. Ну да, две звёздочки. Из-под серой пилотки выглядывают такие же жёлтые, как стол, кудри. Глаза не то чтобы строгие, но какие-то презрительные и высокомерные, как почти у всех ментов, если только они не пьяные и не в добром расположении духа.
Сейчас она, наверное, заведёт обычную песенку: «Что же ты думаешь? Почему бросила школу? Как дальше жить собираешься? Куда собиралась ехать? Почему не устраиваешься на работу?». Она, скорее всего, не настоящий милиционер, в том смысле, что по образованию наверняка какой-нибудь педагог или инженер по соцсоревнованию. Да, так и есть: вон на кителе значок пединститута прикручен с открытой книжкой и гербом СССР. Точно, педагог. Потому и поставили с детьми заниматься. А школу, видимо, как и я, не любит, хотя кто её знает…
— Ну, так что, Климова, рассказывай, как докатилась до такой жизни? — это она, значит, начала воспитательную беседу со мной. «Ага, курица мажорная, щас я тебе начну душу изливать! Жди!».
— Что молчишь? Нечего сказать?
Меньше всего мне сейчас хотелось бы с кем-то разговаривать о своих проблемах. Всё равно я никому не нужна, и никто мне не поможет, пока сама не выкарабкаюсь из этого дерьма. Смешно даже думать, что помогут менты, у них одна метода: ловить, стращать, наказывать, угрожать и, в конце концов, спихивать другим, кто не так перегружен работой, как они.
Родителям я оставила письмо: «Сволочи! Вам пишет ваша бывшая дочь. Я ненавижу вас и проклинаю. Я просила вас, как родителей, отдать мне документы. Вы не дали мне возможности жить. Суки. Отныне я буду шататься по свету». На конверте написала: «Мой адрес вам не нужен». Быстро же они обнаружили моё послание, если уже через несколько часов милиция начала на меня охоту в подвалах и на вокзалах.
Серёже я тоже написала письмо, но не отправила, оно со мной: «Я ни минуты не живу без мысли о тебе. Да живу, пожалуй, только потому, что есть ты, мой родной. Ты злой, грубый, наглый — я знаю. Но, Серёжа, ты можешь быть и ласковым, и нежным. Жаль только, что не со мной. Конечно, ты никогда не узнаешь об этих моих мыслях. Я пишу это только для себя…».
Вспоминаю свой последний день в школе. Мне кажется, наша молоденькая учительница ждёт звонка с урока так же страстно, как и мы. Ей главное — лишь бы не шумели, а чем мы там занимаемся, её мало интересует. После школы мы собираемся где-нибудь в подвале и говорим обо всём на свете, домой идти не хочется. Я всегда завидовала тем, кто с радостью мчится после школы домой, где их ждёт вкусный обед и любящие родители, которые не твердят постоянно, что ты тупая, что ты ни на что не годишься, что ты дрянь, которая не должна была появиться на белый свет…
Прервав постылые думы, я смотрю по сторонам, изучая кабинет: слева от стола моей начальницы шкаф грязно-жёлтого цвета со стеклянными дверцами, краешек одного стекла отколот, и кусочек стекла лежит на полке внутри шкафа. «Наверное, хотят приклеить его», — подумала я. На полках стоят несколько разноцветных детских книжек и игрушки: маленькие машинки, какие-то домики, резиновая лягушка и кукла. Кукла в нарядном белом платье в синий горошек, с яркой фиолетовой лентой и бантиком на поясе, с пушистыми, почти белыми, вьющимися волосами и голубыми фарфоровыми глазами. Кукла мне понравилась. Может быть, потому что своим существованием как бы доказывала: есть и другая жизнь, счастливая и весёлая, праздничная и радостная. Наверное, кому-то повезло больше, чем мне, потому что у меня такой куклы никогда не было, как вообще не было игрушек и ничего похожего на эту принцессу со сказочной планеты, где нет страданий и ненависти.
Мои грустные размышления прервал громкий детский плач за дверью, которая через секунду распахнулась, и в кабинет вошёл молодой милиционер, державший за руку девочку лет трёх-четырёх.
— Лена, — обратился милиционер к хозяйке «детского» кабинета, — девочка потерялась. По словам очевидцев, не потерялась, а брошена. Её, видимо, мама привезла на такси, оставила в зале ожиданий вокзала, а сама уехала с той же машиной…
«М-да, — подумала я. — Похоже, она моя подруга по несчастью. Только я сама сбежала от родителей, а эту малявку, кажется, мамаша бросила».
Девочка плакала, не переставая, и требовала маму. Лейтенант Лена усадила её на стул и вынула из кармана кителя карамельку:
— Хочешь конфетку? Как тебя зовут?
Девочка не отвечала и продолжала плакать. Кажется, у неё была настоящая истерика. Милиционер ушёл, а лейтенант осталась один на один с новой проблемой. Наконец, Елена достала из шкафа куклу и вручила девочке:
— Посмотри, какая красавица! Её зовут Галя. Нравится?
Девочка молча кивнула головой.
— Это будет твоя дочка. Ты её мамой будешь, хорошо? Скажи, чтобы Галя не плакала, поиграй с ней. А тебя как зовут?
— Малина…
— Марина, наверное, да?
Девочка снова кивнула головой.
Хитрый педагогический ход возымел действие, и скоро Марина увлечённо разговаривала с куклой, поправляла ей причёску и платье, то усаживала Галю на диванчик, то брала на руки, чтобы баюкать. Лейтенант Лена блаженно улыбалась, потому что на время проблема была решена. Но кто знает, сколько протянется эта пауза в истерике, ведь причина её не устранена.
Я наблюдаю за этой картиной, и немного отвлекаюсь от своих тяжёлых дум. Хотя нет, я продолжаю думать о своём житье-бытье, но странное дело: мои мысли движутся уже совсем в другом направлении. Я думаю о том, что положение этой девочки намного хуже, чем моё: Марину никто не ищет, она, видимо, не нужна своей матери. А мои родители? Они ищут меня, несмотря на то, что я наговорила и написала им кучу гадостей. При этом у меня есть возможность вернуться домой, я могу сама принимать решения, потому что уже почти взрослая, а эта малявка отныне, может, обречена скитаться по приютам и детдомам. Кто знает, чья судьба завиднее?!
Вскоре в дверях появился всё тот же милиционер:
— Приказано доставить найденную девочку в приют, я отвезу.
— Хорошо. Мариночка, давай, поедешь с дядей — там тебя накормят вкусненько, уложат спать. А потом и мама найдётся. Дай мне куклу, я посажу её назад, в шкафчик, это её домик…
Марина не поддавалась на уговоры лейтенанта Лены:
— Я хочу Галю с собой, мы с ней будем вместе спать.
— Нет, Мариночка, нельзя. Это кукла инвентарная, её нельзя выносить из кабинета, она у меня на подотчёте, я за неё отвечаю, понимаешь?
Девочка не хотела понимать, почему инвентарную Галю нельзя взять с собой. На глазах её снова появились слёзы. По лицу Лены пробежала тень смущения: видимо, в ней боролись между собой жалость к девочке и долг ответственного работника милицейского учреждения. Кажется, ответственный работник победил — Лена просто вырвала куклу из рук Марины, закрыла инвентарное изделие в шкаф, а безутешная девочка проследовала за милиционером, влекомая за руку. Марина плакала, но её никто уже не слушал — к подобным сценам, в милиции, наверное, уже привыкли, так что слабостям здесь не место, приходится проявлять иногда жёсткость.
Девочку увели, и больше я её никогда не видела.
Из детприёмника меня забрали родители. Теперь я дома, поселковый совет помог мне устроиться на завод учеником токаря. Вместо паспорта дали временную справку, по которой и приняли на работу. Хожу в десятый класс вечерней школы. Моя мама рада, что я вернулась. Дома меня никто не ругал, просили только больше не убегать. Да я и сама никогда больше такого не сделаю. Моим учителем на заводе стал токарь Паша Петухов, он очень хороший специалист. Думаю, может многому меня научить, чтобы освоить рабочую профессию. Мне нравится моя работа. Написала письмо Серёже, да передумала — порвала. Ни к чему. Надо будет — и здесь найдётся парень, а лучше всего пока что вообще без них обойтись. Одни проблемы только. Скоро Новый год — надо купить украшений на ёлку…
Иногда я вспоминаю плачущую девочку Марину и инвентарную куклу Галю. Странным образом незнакомая девочка и милицейская кукла помогли мне понять самоё себя и кое-что в этой жизни. Размышляя над этим случаем, я начинаю фантазировать: что если бы Лена в нарушение своих обязанностей подарила несчастной девочке эту куклу? Наверное, лейтенанта бы не уволили и даже вряд ли бы наказали.
Я представляю, как лейтенант Лена в конце своего дежурства пишет рапорт милицейскому начальству: «Я, такая-то такая, будучи при исполнении служебных обязанностей, подарила куклу Галю (инвентарный номер такой-то) девочке Марине, отправленной в приют. Прошу наказать меня за своеволие по всей строгости закона!».
Что за чушь! И придёт же такое в голову! Лучше бы подумать о том, как мы будем встречать Новый год. Всей семьёй. Весело и радостно. Как в детстве.
Соседки
Деревня у нас хоть и небольшая, но дюже интересная, скажу я вам. Вроде бы ничего особенного, а присмотришься: мать честная! Взять, к примеру, что все жители вот уже много лет больны одной и той же болезнью. Болезнь не болезнь, а так, наваждение какое-то. Если, скажем, купил кто-то из деревенских машину или выиграл, не дай Бог, в лотерею, назавтра никто из ближних, по крайней мере, соседей с постели встать не может: болят все бока, настроение паршивое, аппетита нету, и разговор не клеится. И наоборот: если, положим, потерялась у тебя корова или захворал кто-то из домашних серьёзно, то соседи с утра встречают тебя с широкой радостной улыбкой и всё время норовят спросить эдак участливо: «Как дела? Как настроение?», предвкушая сладостный ответ страдальца. Люди готовы простить вам всё: кражи, прелюбодеяния и сквернословие, даже убийства. Всё — кроме успеха и удачи.
Болезнь неизлечимая, она только принимает всё более уродливые формы — прогрессирует, как сказали бы доктора. И чем больше денег витает вокруг, попадая в более удачливые руки, тем сильнее симптомы опасной этой болезни, что называется одним словом — Зависть.
Тётка Лукерья редко попадала на язык местным сплетницам — жила она давным-давно одна-одинёшенька, была приезжая, не из местных, а потому держалась в стороне от пересудов и распрей. Местные жили некими кланами — родственники и друзья стояли друг за друга горой, а вот приезжих не любили только за то, что они де чужие.
Лукерья была из западных, к которым у закоренелых сибиряков издавна было насторожённое отношение. В начале войны эвакуировали аж за Байкал с оккупированных немцами территорий часть жителей Украины и Белоруссии. После войны многие вернулись в родные места, а Лукерья осталась в Сибири, потому что здесь вышла когда-то замуж, здесь вырастила детей и похоронила мужа. На Западе у неё никого не осталось. Была одна сестра младше её на два года, да и с той разминулись при эвакуации: Галю в какой-то детдом отправили, а Лукерья была повзрослей и сама определилась на работу, жильём каким-никаким эвакуированных обеспечивали. Так и получилось, что доживать ей довелось в сибирской Николаевке. Секрет был в том, что её родная деревня на Украине называлась точно так же — Николаевка, потому и полюбила Лукерья с молодых лет эти края, ставшие родными, несмотря на косые взгляды новых односельчан.
В брежневские времена была такая блажь у местных властей — обеспечить всех животноводов и интеллигентов (сюда причисляли учителей, фельдшеров, завклубами и счетоводов) двухквартирными домами. Пролетариев (то бишь, местные промышленные предприятия) обязывали строить в год не менее двух-трёх домов для развития деревни.
И понастроили таких домов — не меряно. Нет, процесс сам по себе положительный и немало способствовал улучшению жилищных условий местного населения. Но, как всегда, власти не учли менталитет облагодетельствованных. Каждому человеку хочется иметь не просто жилище, но отдельный дом, где бы он мог чувствовать себя полным хозяином и не спрашивать у соседа, когда ему следует спать, а когда принимать гостей.
А тут — у каждого жителя вроде надзирателя: кто пришёл-приехал к соседу, сразу знает вся деревня, поругались муж с женой — всем известно, как он её обозвал, как она его величала. Петь и плясать в своём доме стало несподручно, на улицу тем более не выйдешь в сверхвесёлом настроении — того и гляди, в милицию заметут. Это раньше, бывало, возьмёшь в руки гармошку и айда по улице всей гоп-компанией с песнями плясками. Теперь не то.
Но вернёмся к разговору о Лукерье. Они с мужем получили квартиру в таком вот двухквартирном доме лет тридцать назад. Муж Семён был механизатором широкого профиля, Лукерья работала завсельмагом, так что семья на деревне была не из последних.
Во времена всеобщего дефицита завмаг на селе стал чуть ли не главной фигурой — к ней шли на поклон даже большие начальники, потому как этот самый дефицит шёл исключительно через лукерьины руки. Чего греха таить: привилегированное положение немного испортило её характер — привыкнув, что все перед ней лебезили, выпрашивая то и это, она не терпела в свою сторону никаких поползновений, привыкла говорить тоном, не терпящим возражений и поглядывать на односельчан чуть свысока, стараясь при этом не слишком задевать самолюбие деревенских строптивых сограждан.
Детей у них с мужем не было, единственный сын умер в младенчестве от дифтерии, а больше Бог не дал им потомства. Семён скончался, едва уйдя на пенсию, так и осталась Лукерья доживать свой век в одиночестве.
Оставшись одна, Лукерья не раз вспоминала свою младшую сестру Галю, пыталась найти её даже через телепередачу «Жди меня», каждый выпуск которой смотрела с надеждой на чудо. Но шли годы, а телевизор молчал об её потере, зато вдоволь наплакалась Лукерья, глядя на встречи других людей, через десятки лет нашедших друг друга.
В один прекрасный день двухквартирный дом, где жила Лукерья, покинули соседи — молодая пара завербовалась на севера, продали квартиру пожилой женщине, приехавшей откуда-то из Заполярья. Многие годы она работала бухгалтером на каком-то руднике и, видимо, подкопила изрядно деньжат, потому что купила квартиру, не торгуясь, хотя приехала с одним чемоданом. Всю обстановку приобрела на месте, даже купила козу, чтобы пить ежедневно свежее и полезное молочко. Кроме этих скудных сведений да имени Галина о новой жилице Лукерья ничего не знала, да и не особенно пыталась узнавать, потому что невзлюбила соседку сразу — всё по той же причине зависти: новая соседка приехала при деньгах и никому не кланяется.
Может, из вредности, а, может, случайно соседка назвала свою козу Лушкой — так в детстве звали Лукерью. Из-за этой козы и получилась у двух соседок настоящая война. Нет, не из-за имени: однажды эта Лушка перемахнула каким-то чудом через забор и оказалась в соседском огороде, где успела навести свои порядки на грядках и отведать несколько капустных кочанов, дело-то было в конце лета.
Лукерья, как увидела в окошко незваную гостью, аж зашлась от ярости — схватила толстую жердину и давай лупить козу куда попадя. Однако Лушка увёртывалась умело и при этом продолжала топтать грядки самым нещадным образом. На шум и лукерьины маты выскочила из дому Галина и, вместо того, чтобы урезонить свою животину и увести домой, принялась отбирать у Лукерьи её увесистое оружие. В схватке соседки наставили друг другу синяков и утихли лишь когда обеих покинули старушечьи силы, а коза Лушка, так ничего и не поняв, продолжала угощаться с соседского огорода. Наконец, Галина ухватила свою Лушку за ошейник, потащила в свой двор и привязала верёвкой к столбу посреди огорода — вот, мол, тебе пастбище. А сама поспешила писать заявление в милицию о нанесённых ей и козе увечьях, самыми серьёзными из которых были пара синяков на руках Галины и ушибленная нога у козы, животное стало прихрамывать.
Соседка тоже не теряла времени даром: накатала жалобу участковому и перечислила нанесённый ущерб да описала свои синяки и ссадины.
Не прошло и месяца, как обеих соседок вызвали в суд. За долгую жизнь обе были в таком учреждении впервые и изрядно оробели при виде судьи-женщины в мантии и с деревянным молоточком в руках.
Первой с места подняли Галину:
— Фамилия, имя, отчество — полностью? Год рождения? Где и когда родились?
— Я Стецько Галина Серапионовна, тысяча девятьсот тридцатого года рождения. Родилась в селе Николаевка Сумской области, на Украине…
Лукерья подскочила с места:
— Так я тоже Стецько — Лукерья Серапионовна, родилась в двадцать седьмом году в Николаевке, эвакуирована из Сумской области Украины…
Обе женщины заплакали и обнялись. Судья, оценив сложность момента, постучала молотком по столу и объявила:
— Перерыв на тридцать минут.
Перебивая друг друга, Галина и Лукерья задавали вопросы, отвечали невпопад и делились воспоминаниями, пока их снова не пригласили в зал суда.
Судья, не садясь в кресло, провозгласила постановление:
— Штраф обеим по пятисот рублей, Галина Серапионовна Стецько должна возместить ущерб Лукерье Серапионовне Матвеевой (Стецько) в размере трёхсот рублей. Постановление получите позже. Все свободны.
Судья нарушила неписаный закон о беспристрастности и посмотрела на обеих сестёр с некоторым участием и состраданием.
Наверное, в первый раз в судебной практике был случай, когда обе истицы были довольны приговором и ничуть не возражали — ещё бы, ведь суд вернул их друг другу через шестьдесят с лишним лет. Так что спасибо суду, козе и огороду. Правда, всего этого могло бы и не быть, если б с самого начала соседки поговорили по душам.









