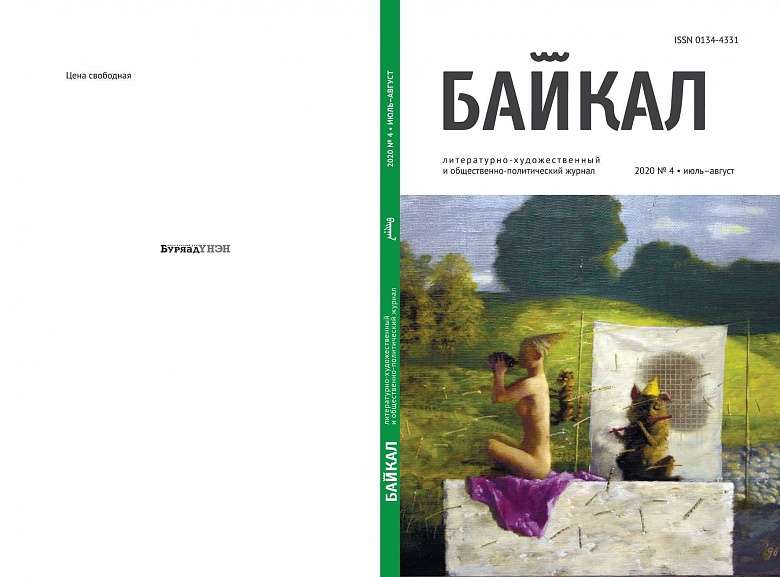
Владимир Некрасов — прозаик, художник. Родился в 1958 г. Автор трех книг прозы, а также многочисленных публикаций в коллективных сборниках и альманахах. Живет в Магнитогорске.
Длинный и короткий
Павел Маринин считал себя видным парнем. Так оно и было. Девушки заглядывались на него, но после двух-трёх встреч обычно оставляли. «Курицы, не понимают мой внутренний мир», — говорил Паша. Рост его составлял метр девяносто восемь, однако обувь он носил сорок первого размера. У него были маленькие заострённые уши, короткая стрижка, и со спины он напоминал вампира из кинофильмов. Вот-вот над кем-нибудь нависнет и присосётся.
Александр Латков имел туфли сорок второго размера, но ростом не вышел, его макушка была вровень с грудными сосками Маринина. Вдобавок Саша всегда сутулился, и со своими весьма развитыми предплечьями был похож на приземистого горбуна. Они работали в паре. «Саша-Паша», — шутили над ними ребята из отряда. Между ними были номинальные приятельские отношения, никак не перелившиеся в обыкновенную дружбу.
В душе Маринина сидел маленький кусачий зверёк, похожий на мышь-полёвку. Бывало, за столом, когда Латков, ни о чём не подозревая, уплетал свою пайку, Паша невзначай спрашивал: «Ну как, вкусненько на халяву?» Или, например, когда Александр исповедывался о своей новой любви, Маринин, с кротким лицом, невинно осведомлялся: «Она встаёт на четвереньки?» Эти колкие, безобидные реплики навсегда застревали в сердце Латкова. А внутри него жил сумасшедший кротик. Не знающий покоя, он то и дело прогрызал дырочки в Сашином желудке. «Это нервы», — говорили ему врачи. А случись, встретиться где-то на вечеринке, Латков так, бывало, прилюдно оскорбит Маринина, употребляя неприличные слова, аж самому тошно станет. Впрочем, наутро ничего уж не помнил, ведь сумасшедший кротик болел с похмелья.
Их объединяло внутреннее своеобразие характеров, и они стоили один другого. Да и спасали друг друга не раз, не находя в этом ничего необычного. Образцовая пара оперативников.
Однажды, перед выходным, накануне католического Рождества, они сидели в небольшой кофейне на Чистых прудах и обсуждали очередное дело. Всё складывалось как нельзя лучше. В их руках была исчерпывающая информация. Паша с мальчишеской бравадой потряс синенькой дискетой перед лицом Латкова и ловко спрятал её в поясной кошелёк. Напарники, рассмеявшись, встали из-за стола и направились к выходу. Один, длинный, в джинсах и коричневой рубахе, небрежно торчащей из-под куртки. Другой короткий, в белом костюме, явно спешивший на какое-то торжество. Эта пара невольно притягивала к себе любопытные взгляды, среди которых были цепкие недобрые глаза, наблюдавшие вот уже более получаса за напарниками.
Латков сел в свою серебристую VOLVO, Маринин — в чёрный BMW. Да, неплохо живут оперативники, на взгляд простого народа. Однако этот простой народ не вмешался, когда в десяти километрах от метро Тургеневской, на автозаправке, Латков упал спиною на холодный асфальт и на его неприлично светлом костюме стало расползаться бурое пятно.
— Вечно ты вырядишься, прям как не знаю кто,— говорил Павел у дверей кофейни семь минут назад, с улыбкой пожимая руку Александра, — а меня принимают за твоего охранника.
— На свадьбу еду, дорогой, свидетелем… Надо же когда-нибудь надеть этот дурацкий костюм, зато завтра увижу на нём следы всех угощений! — шутил Латков.
— Ладно, езжай, пижон! — Маринин проводил его взглядом, сел в свой Бумер, и отъехал.
Он не видел, как спустя несколько мгновений, слева от кафе двинулся в его сторону чёрный джип, а следом за машиной Латкова поползла замызганная, серая девятка. Только кусачий зверёк зашевелился внутри, и Павел подумал, что не к добру все эти новые костюмы. Через шесть минут он припарковался возле новенького сигаретного киоска. Не рискуя быть оштрафованым, Маринин заехал прямо на тротуар. Что ж, не его вина, что в Москве для пешеходов почти не осталось места. Перемахнув через заборчик, он зашагал по безлюдной в эту пору детской площадке в сторону нотариальной конторы. Через пятнадцать секунд его догонит здесь крупный наёмник в косухе и попытается отобрать заветную синюю дискету вместе с самой жизнью. В это время недалеко отсюда, на лукойловской автозаправке, Саша тихо хлопнул дверцей своей VOLVO и стал поворачиваться в сторону окошка диспетчера. Его тренированное тело двигалось грациозно навстречу смертельной опасности, сближаясь со стволом невзрачного типа, что вылез из грязной девятки, припарковавшейся у соседней колонки. Сумасшедший кротик, поджав ушки, смотрел на смертоносную чёрную дырочку, которая гипнотически обездвижила всё его тельце.
Маринин, в отличие от Латкова, не посещал спортивных залов, попросту брезговал, но его реакция на опасность была на редкость быстра. Видно, кусачий зверёк помогал. Вот и сейчас, когда Паша, весь в своих мыслях, следует к нотариальной конторе, кусачий зверёк уже изготовился к прыжку, заметив жирную ядовитую сороконожку, что свернулась колечками в мозжечке у преследователя. А у другого наёмника, который, не волнуясь, приставил пистолет к костюму Латкова и выстрелил, копошился в мозгу престарелый майский жук. Невзрачный тип, уроженец Волгограда, умрёт у себя на родине ровно через четыре месяца после этого московского декабря, ему на заднем дворе собственного казино загонят в ухо металлический прут, это отдельная история. И уснувший наконец майский жук нетяжёлым, сухим комочком выпадет из другого уха на родную, глинистую землю, став её органической частью. Старый жук давно уже стремился домой, он потерял всякую связь с хозяином, который в этот момент с педантичностью клерка выполняет свою работу, ощупывая тело Латкова, в поисках синей дискеты.
Громила в косухе бесшумно догнал Маринина, коротко замахиваясь излюбленным оружием. Мастер своего дела, он всегда носил с собой коллекцию уникальных лезвий. Он и не подозревал, что дух его уже скорбно бредёт в преисподнюю. Убийца станет через три секунды покойником. Кусачий зверёк ловко прыгнет, вытянув тельце по направлению к цели, Паша краем глаза заметит зловещее движение за спиной, упадёт вправо, переворачиваясь и делая подсечку противнику, при этом случайно ломая шведскую лесенку для детей, устроенную на площадке. Наёмник, потеряв равновесие, повалится вперёд, на Маринина, успевшего откатиться вбок. Интуитивно двигаясь и совершенно не целясь, Паша приподнимет край колышка, перекладину недавней лесенки, и этот сухой обломок лиственницы, упираясь одним концом в землю, войдёт в пасть громилы, кроша зубы, проламывая нижнюю часть черепной коробки, и выталкивая на свет Божий жирную сонную сороконожку, где её и настигнет кусачий зверёк.
Более крепкий, но менее везучий, Латков, лежал в этот миг, вбирая всею своей распластанной фигурой мутное столичное небо, как брошенный на грязную землю бутон лилии. На боку его белоснежного костюма разрасталось тёмное пятно, и чьи-то маленькие ручонки ощупывали его. Это цыганский мальчик шарил по карманам, его не пугал убитый дядя, другие люди не приближались. Служитель заправки сделал звонок в милицию и закрыл территорию.
— Возьми деньги, только отдай сотовый… — еле слышно шептал Александр смелому мальчику. Он ощущал себя разорванным на две половины.
Из дырочки в середине пятна тоскливо выглянул сумасшедший кротик и снова спрятался, не хотел уходить, поэтому ранение Латкова оказалось не смертельным.
Цыганёнок послушно вернул сотовый телефон, и уже через несколько минут Маринин, включив мигалку, как пьяный, нёсся по предвечерней Москве, разместив на заднем сидении умирающего напарника.
Латков поправился. Дело было завершено. Саша и Паша по-прежнему работали вместе, попадая в новые переделки. Их отношение друг к другу не изменилось. Не было между ними сердечной дружбы, хоть убей. Это не беда.
Но однажды случилось чудо. Так вышло, что судьбы их стали расходиться. Павел отправлялся жить и работать в далёкий южный город. И вот за два часа до отхода поезда, в тот же самый день, только спустя два года, накануне католического Рождества, она сидели за бутылочкой в однокомнатной квартире Маринина. Кроме Саши, некому было проводить Пашу на вокзал. Не обзавелись семьями ни тот, ни другой. Окно настежь, они сидели, пили водку, курили… да вот уж и идти пора.
Напарники встали и, помилуй Господи, обнялись от сердца. И зверьки в их душах притихли, понимая важность минуты. Какое-то очень большое человеческое чувство случилось в этой выстуженной, прокуренной комнате. Они осознали, что им больно терять друг друга. Что между ними есть, оказывается, и всегда была, огромная мужская дружба.
Чёт-нечет
*
— Что вы не пьёте пива? — сказал поэт и тут же добавил: — Какой поэт? Откуда он взялся?
— А ты не пробовал писать прозу? — спросила поэта рассудительная дама.
— По-настоящему нет, — ответил поэт серьёзным голосом.
— Пробовал, пробовал!.. — кривляясь, подсказал второй поэт.
— Ну вот, скажет какую-нибудь глупость и радуется, как ребёнок, — заметил первый.
Все засмеялись.
Когда пиво кончилось, эти жизнерадостные люди вновь сходили за ним да по дороге прихватили с собой ещё и проповедника.
— Грех — быть богатым среди нищеты! — прямо с порога заорал проповедник.
— Мудрость хороша с богатым наследством, — возразил поэт, — и потом, когда пиво пьют — по столу течёт!
— Покажи, где это написано? — зацепился за фразу второй поэт.
— А написано это, родной, в книжке! Первоисточники надо читать! — самодовольно сказал первый.
Быстро сориентировавшись, второй поэт протянул руку в направлении первого и говорит:
— Старик, у тебя тут рубчик не тот!
— Тот, родной, тот, — возразил первый.
— Не тот, старик, не тот! — настаивал второй.
Дальше их разговор не отличался разнообразием. Каждый с завидным упорством повторял свою реплику, пропуская мимо ушей слова проповедника.
Рассудительная дама вылетела от них и погрузилась в прибрежные заросли.
— Что она там делает?— удивился проповедник.
— Загадочно улыбаюсь, — ответила дама из кустов.
*
Первый поэт с мешком бисера направлялся к своим знакомым.
— Тебе не тяжело? — язвительно поинтересовался второй.
— Свой груз не давит, — скрипя зубами, ответил первый.
— Старик, так бисер-то не тот! — засмеялся второй.
— Тот, родной, тот! — с бешеным терпением возразил первый.
Их реплики опять однообразно повторяются, пока в игру не вступают трансцендентные силы в лице подвыпившего тридцать третьего поэта.
— Старичок, давай поменяемся номерами, — говорит тридцать третий первому.
— Не-а, поменяйся вон с ним, — первый поэт указывает пальцем на второго.
Второй поэт, со словами «Эт самое… эт самое…» трагически сжимается и превращается в рыбу. Сверху стремительно падает рассудительная дама, хватает рыбу и скрывается в прибрежных зарослях.
— Ну тогда скажи мне, старичок, — продолжает тридцать третий, — ведь правда, что номера наши присвоены не за таланты и заслуги, а просто в порядке бюрократической регистрации?
— Ну конечно, родной, это так, — великодушно ответил первый и похлопал тридцать третьего по плечу.
— Да, тебе хорошо говорить, ты-то — первый! — заныл тридцать третий.
— Не плачь, родной, вон тому ещё хуже, — и первый небрежно кивнул за спину тридцать третьего.
Там, понурив голову, стоял, тридцать четвёртый.
*
Закрывшись в своём гнезде, рассудительная дама любовалась уникальными раритетами, кропотливо собранными ею за долгие годы.
Коллекция давно нуждалась в системном анализе, и вот сегодня рассудительная дама приступила к регистрации.
— На первый-второй рас-чи-тайсь!
— Правое плечо, вперёд шаго-о-ом арш!
Она выкрикивала различные команды и, видя, как тщательно и точно выполняются её указания в этом искусственном мире, заходилась бурным победным клёкотом.
Нежно ощупывая гладкие тела послушных предметов, рассудительная дама решила:
— Пусть все нечётные экспонаты будут связаны со смертью, а все чётные пусть будут холостыми.
С той поры так и повелось.
*
На берегу залива, среди песка, чернели два поэта в дорогих вечерних костюмах. Английская ткань костюма первого поэта была покрыта изящным рубчиком.
К ним приближался проповедник. Он, прихрамывая, шел по воде. Справа от них из залива, равномерно позвякивая чешуей, выползала колонна марширующих поэтов. А слева из ракушек, как устрицы с ресторанных подносов, соскакивали чистые женщины кисти Боттичелли.
— Так, к женщинам нам пока еще рано, я предлагаю занять денег у этого попа и пойти пить пиво, ну, возможно, прихватим с собой вон того полупьяного тридцать третьего для компании, — предложил первый поэт.
— Да, старик, да, гы-ы гы-ы гы-ы! — одобрил второй.
— Здравствуйте, добрые люди, — поздоровался проповедник. — Не хотите ли взять у меня денег на пиво?
— Хотим! — в один голос ответили поэты. — Только ты нам свои двухмерные религиозные представления не излагай, мы все это уже проходили!
Проповедник сразу отяжелел и вошел в песок по грудь. Сверху на него коршуном упала рассудительная женщина. Откопав беднягу, она смахнула с него песчинки и положила проповедника в правый карман. В левый она заботливо положила тридцать третьего поэта и, довольная, скрылась в прибрежной зелени.
*
Каждый нечетный поэт, начиная с третьего, лежал в сырой земле, оставив после себя добрую память и хорошие стихи. Но этим дело не ограничилось. Весь фокус в том, что они росли в своих могилах, как гоголевские мертвецы из «Страшной мести».
— И вы не смоете всей вашей черной кровью Поэта праведную кровь! — декламировал Лермонтова восьмой поэт. Ему внимал тридцать третий. Немного помолчав, восьмой страстно продолжал:
— Я все время думаю о седьмом поэте. Как он велик! Он постоянно растет в моих глазах! Он сейчас там, внизу, но я физически чувствую, как он давит на меня. Я чувствую, как поднимается земля подо мной! Я только сейчас начинаю понимать, какой это талантище! Какая глыба наползает на меня, какой гений! Я же вижу, как он взял вот это — из Чичибабина, вот это — из Бродского, вот это — из меня... Но как он это органически переварил и построил!
Его уже нет, и вещи, предметы, которыми он пользовался — книжки, кружки, табуреты — все они катастрофически сокращаются в размерах, а отпечатки его пальцев чудовищно растут! Я трепыхаюсь и путаюсь за его гигантской спиной, попадаю в его громадные следы, как в глубокие колодцы, из которых не каждый выберется... И главное, понимаешь ли, все нечетные так себя ведут. Все они, как правило, покойники, и все продолжают расти!..
— Погоди, старичок, — перебил его тридцать третий, — а ведь мой номер — тридцать три!
— Значит, это ошибка. Твой номер — либо тридцать два — как раз последняя буква алфавита, либо тридцать четыре, а может быть, любое другое четное число, конечно, за исключением восьмерки. Что же ты, дружок? В твои годы пора бы уж определиться, — незлобно пожурил своего собеседника восьмой.
Тридцать третий озадаченно молчал.
Они стояли на земле, покрытой могилами нечетных поэтов. Меж могильными холмами в торжественной тишине цаплей бродила рассудительная дама. Она помнила их добрые поступки, но и дурные дела усопших забывать не собиралась.
Птицы, как известно, злопамятны и далеки от христианской доктрины всепрощения.
*
За пивом проходил оживленный теологический диспут. Участвовали: два поэта — один из них буддист, другой завзятый рериховец, рассудительная дама — убеждённая атеистка, проповедник сектантского толка и механический автоответчик.
— И-и-идите и рассказывайте!.. — азартно говорил проповедник.
— Первые три человека, правильно ответившие на все четыре вопроса, получат приз. Вопрос номер один... — монотонно диктовал автоответчик.
— Идите и рассказывайте!.. — не унимался проповедник.
Первый поэт внимательно смотрел на него и, кивая головой, говорил:
— Ага. Ага. Ага...
— Почему камни не были обращены в хлеба? — спросила рассудительная дама. — Сейчас мы бы ходили по хлебу, как по земле.
— Да, ходили бы по хлебу, — подхватил первый поэт, — да мы и так ходим по хлебу. По хлебу ходим! Вам, как самым неграмотным, я скажу вот что, существует такое выражение: «Кисельные берега, молочные реки...», так вот, кисельные — это раскисшие, молочные — это водяные, потому что «молоко» — это по-старославянски «вода»...
— А куда же делись жареные куропатки? — не отставала дама. — Ведь сказка начинается так: «В то давнее время, когда мир божий наполнен был лешими, ведьмами да русалками, когда реки текли молочные, берега были кисельные, а по полям летали жареные куропатки...»
— Ну, куропатку приготовить — это пара пустяков, — поэт нервно посмотрел на птичий профиль рассудительной дамы, — к тому же отрубленные головы стремительно умнеют.
— Не говорите так, это очень интимные вопросы, — подал голос второй поэт.
— Да никакие не интимные, вот есть «Новый завет», идите и рассказывайте! — заявил проповедник.
— Духовность, духовность…— распалился второй поэт. — Ты эти понятия — духовность, бог... блин, как шнурки... туда-сюда, туда-сюда... меняешь, как перчатки.
— Кстати, я никогда в жизни не менял перчатки, — произнес автоответчик.
— По четыре раза, — вклинился первый поэт, — джентльмен должен в сутки менять перчатки четыре раза!
— Ну, мы же не знаем об этом.
— Вы не знаете, а мы знаем!
— И что, вы меняете перчатки четыре раза?
— А как же, когда носим — тогда и меняем!
— Для меня эти понятия священны! И не надо при каждом случае, блин... — продолжал второй поэт.
— Я вот вижу, что люди, живя не духовно, могут погибнуть, поэтому иду и рассказываю, — оправдывался проповедник.
— А как вы определяете, что человек недостаточно духовно живет? — спросила рассудительная дама.
— Времени на ответ двадцать секунд, — пропел автоответчик.
— Так они один сам спрашивает, второй даже книжку не открывал, — пояснял проповедник.
— А другой открывал и больше тебя знает, а ты ему все это рассказываешь снова да ладом, — укоризненно вставил первый поэт.
— Да, старик, все это очень интимно, — поддержал его второй.
— Проповедовать — это искусство, — заметила дама.
— Да, надо врать-врать, да знать меру! — согласился первый поэт. Бисер в его мешке почти кончился.
— Слова наши, как сказано, должны быть простыми: да-да и нет-нет, нужна доброта, а не ум, надо идти и рассказывать.
— Нет, старик, эти вещи не такие двухмерные, они интимные...
— Ну не знаю, вот для меня, например, прелюбодеяние — это грех, — убежденно говорил проповедник.
— Нет, старик, ошибаешься! Женщины, они чистые! — сказал второй поэт.
— Да, чистые и скользкие, как устрицы, — добавил первый.
— Вопрос номер четыре… — заработал автоответчик.
— Это мы уже проходили, сколько раз в сутки джентльмен должен менять... Господа, я вот что вам скажу: когда человеку нужен бог, он, человек, ставит на себе крест! — весомо произнес первый поэт.
Полемика разгорелась с новой силой. Второго поэта несло над Гималаями. Рядом, гордо расправив крылья, парила рассудительная женщина, а вслед за ними летела их преданная покойная собака Тузя. Это к ней обращал свои помыслы первый поэт, устроившийся в позе полистиролового бодхисатвы на одной полке с автоответчиком:
— Дух людей восходит ли в небо, а дух животных сходит ли в землю?
— Времени на ответ двадцать секунд.
Проповедник, прихрамывая, удалялся по речной глади в сторону кинотеатра «Магнит», поспешая на запланированную проповедь.
*
А меж культовой статуэткой бодхисатвы и автоответчиком лежало холодное металлическое устройство, внутри которого притаились блестящие продолговатые существа.
Редко кто заглядывал в их души, и мало кто знал, что при регистрации им присвоены лишь нечетные номера.
Миниатюры
Вечное возвращение
Вова открыл глаза и видит: осень на улице, по мокрому асфальту стучат каблучки... Какой-то высокий мужчина нагнулся к нему и говорит:
— Папа, тебе плохо?
— Плохо, — ответил Вова и закрыл глаза. Испугался, что осень на улице, что сын незаметно вырос и превратился в незнакомого человека, что годы уже прошли и теперь приближается к нему неизвестно что.
— Готовьтесь к новой жизни, — сказали ему врачи.
— К загробной, что ли? — спросил Вова.
— Нет, имеется в виду перемена образа жизни, то есть обходиться без сигарет, без спиртного, без хрустящих маринованных огурчиков и прочего...
Вова открыл глаза и видит: розовые и серые пятна на стенках желудка; гладкий, как яичко, камушек, закатившийся в левую почку; изящные перламутровые налеты на двенадцатиперстной кишке; стройные силуэты давнишних подруг, спешащих по мокрому утреннему асфальту в холодные казенные помещения...
Вова протянул руку, чтобы потрогать гладкий камушек, а рука — бац! — и отвалилась. Вова вскочил на ноги, а ноги — трах! — и рассыпались, как сухая глина. Вова дернулся, хотел крикнуть, но губы уже зашиты суровыми нитками, и мрачный египетский косметолог накладывает на лицо погребальные краски. Испугался Вова и закрыл глаза. Потом снова открыл и видит: на улице осень, по мокрому асфальту стучат каблучки... все то же самое.
Встреча
«Блок был и остается моим другом, хотя в жизни мы не встречались, и когда он умер, я был еще ребенком... Я видел его летом и осенью 1949-го года.» — рассказывает Даниил Андреев.
Вокруг так сумрачно, и я сижу будто на лавке в скверике около кинотеатра имени Горького. Вижу идет Блок. Тонкая сутулая фигура, длинное пальто, кудри, бледное лицо, в руках кофр. Я встаю, делаю два шага ему навстречу, развожу руки и не могу сдержать глупую улыбку:
— Александр?!
— Александр, — утвердительно откликается он.
— Александрович?!
— Александрович, — кивает он с оторопелой улыбкой.
— Блок?!
— Бабель, — говорит он.
— Бабель?
— Да, Бабель.
— Исаак, что ли?
— Нет, Александр...
— Александрович?
— Александрович.
— Блок?
— Бабель!
Да что ты будешь делать! Мы присели на лавку, закурили. Я смотрю на него: тонкая сутулая фигура, длинное пальто, кудри, бледное лицо, в руках кофр.
— Саша.
— Да, — откликается он.
— Бабель, значит,
— Да, Бабель
— Саша, а какое отношение вы имеете к Исааку Эммануиловичу Бабелю?
— Никакого, — говорит он.
— А зачем тогда кофр? Не понимаю...
Мы сидим рядом и молча курим в сгущающихся сумерках. Видим идет тонкая сутулая фигура, длинное пальто, кудри, бледное лицо, в руках кофр.
— Александр? — со слабой надеждой окликнул я.
— Александр, — отозвался тот
— Александр Александрович? — воодушевляясь, привстал я
— Александр Сергеевич!
— Пушкин, что ли? — рявкнули мы в один голос с Бабелем.
— Блок! — веско произнес тот.
Завтрак
За столом сидят три человека.
— Все так получилось потому, что он большой романтик и очень любит детей, — говорит господин, похожий на Николая Константиновича Рериха, и кивает в сторону своего соседа с усиками.
Сосед с усиками похож на Адольфа Гитлера, он закутан в легкий плащ. Скрестив руки на груди, а ладони заложив в подмышки, он, поеживаясь, смотрит вдаль сквозь распахнутое окно.
На его лице играет задумчивая полуулыбка.
— Ба-а-альшой романтик! — мечтательно повторяет третий собеседник — розовощекий старичок, похожий на Кнута Гамсуна.
— Большой романтик... — вновь говорит господин, похожий на Рериха.
Все они просты и естественны. Кто-то из них недавно поплакал, кто-то раздавил насекомое.
Коридор
По коридору шла представительная задумчивая женщина. В руках она держала блюдце и чашечку. Длинна коридора составляла восемь метров. Движение женщины сопровождалось металлическими звуками: клац, клац, клац, клац...
Женщина несла чайный прибор так осторожно, будто боялась пролить горячий дорогой напиток. Однако в действительности чашка была пустой, зато между пальцами ее босых ступней виднелись блестящие мельхиоровые ложечки. Четыре на одной ноге и четыре на другой. Коридор соединял кухню и гостиную. Для того, чтобы его пройти, женщине потребуется шестнадцать шагов. Она сделала уже четыре и идет дальше: клац, клац, клац...
В это время навстречу ой вышел мужчина: топ, топ, топ, топ...
Женщина остановилась и прислушалась к новым звукам.
Топ, топ, топ.
Она сделала два шага назад: клац, клац. Опять остановилась.
Мужчина тоже замер. Попав из света гостиной во тьму коридора, он ничего не мог разглядеть.
— Галя?.. — тревожно произнес он.
Никто не отзывался.
— Галя, это ты?
— Нет! — не своими голосом сказала Галя.
— А кто тут? — спросил мужчина, еще более волнуясь.
— Ро-берт Мо-у-ди! — торжественно провозгласила Галя и вновь двинулась по коридору: клац, клац, клац, клац.
Молочница
Галя торговала молоком на проспекте Карла Маркса. Каждое утро ее привозили сюда из пригородного колхоза и оставляли на целый день около большой металлической бочки на колесах. Повадились к ней ходить молодые инженеры из городской проектной организации.
— Угости-ка, Галочка, молочком! — посмеиваясь, говорили они во время обеденного перерыва и совали ей по очереди свои стаканчики и кружки.
Проворные пальцы молочницы кокетливо мелькали под струей пенящегося молока. Она, краснея, подавала его симпатичным молодым людям и стыдливо думала о своей любви.
Так продолжалось все лето.
В одно светлое сентябрьское утро вместо Гали около бочки появилась неприятная носатая тетка, которая визгливо орала:
— Свежее молочко! Свежее молочко!
Когда настало время обеденного перерыва, как обычно подошли молодые люди. Они протягивали посуду и не знали, что внутри бочки лежит мертвая Галя.
Словно огромная белая лягушка, покачивалась Галя в свежем молоке и остужала его.
Проекция
— Можно, я тебе сделаю проекцию? — краснея, обратилась Татьяна к своему сокурснику Родиону, что сидел рядом с ней и задумчиво теребил в руках колпачок от шариковой ручки.
— Можно, а что это такое? — откликнулся тот.
— Ну, это, когда ты берешь вот здесь и так зажимаешь, зажимаешь, а потом так плавно отводишь и — тик-тик, так тихо тикаешь...
— Тик-тик... — с глуповатой улыбкой повторил Родион, — не понимаю.
— В общем, это предмет... женского рода, — терпеливо объясняла Татьяна.
— Девочка, что ли? — удивился Родион.
— Сам ты девочка!
— Не-а, я мальчик.
— А я, по-твоему, кто? — сузив глаза, спросила Татьяна.
— А кто ты? — растерялся Родион.
— Наверное, твоя мама, дундук!
— А-а, — бессмысленно произнес Родион.
— Ну что, делаем проекцию? — не унималась Татьяна.
— Не-а, — после долгой паузы откликнулся Родион.
— Это почему же?
— Да так... уж больно ты стремная. И потом, я просто вижу, как отвратительно скользкие, ужасные существа пытаются проникнуть в наш мир, они грызутся и ворочаются в бездонных, мрачных глубинах, они хрустят и давятся белыми костями отживших поколений и неумолимо поднимаются оттуда к нам. Я смотрел американский видеофильм на эту тему. Поэтому незачем стирать праздничные сорочки, а затем крахмалить их, ведь все равно их случайно заляпают каким-нибудь рыбным соусом на грядущем светском приеме, где справа от меня будет сидеть эта фанатичная дура и завывать, покалывая вилкой свою нижнюю, фиолетовую от помады губу, о предпосланных человечеству откровениях. А слева — до чертиков приветливый дипломат с Крайнего Севера, страдающий редкой формой нервного тика. Они всегда усаживаются по обе стороны от меня и ведут беседу через мою голову. «Блаваца», — говорит дипломат. «Блаватская», — поправляет его повёрнутая на прорицателях дама. «Целоваца!» — не унимается дипломат. «Целоватская», — неуклонно гнет свою линию дама. Увлеченные разговором, они брызгают на меня слюной, и дипломат непременно переворачивает на мои брюки пару порций липких деликатесов в неумышленном приступе подергивания конечностей, а его подружка постоянно стряхивает пепел за мой воротник... вот тебе и проекция!
Старик
Смерть любит стариков. Один из них сидит у подъезда на лавке и ошалело взирает на прохожих.
— Опять напился, алкаш... — незлобно ворчит соседка, вынося мусорное ведро.
Полвека назад он был лихим забиякой. Маленький, с тех пор он не вырос, волосы всегда ёршиком, а сейчас — седые. Он вызывающе смотрит в глаза каждого проходящего мимо человека. Гиблая среда фабрично-заводского городка так и не сумела убить этот нахальный взгляд хищника. Он живёт один в запущенной хрущёвке. Жена давным-давно куда-то делась, а сын повесился в прошлом году. Старик целыми днями сидит у подъезда. Иногда он встаёт и на негнущихся ногах, покачиваясь, бродит по тротуару возле дома. Туда-сюда. Со спины он похож на мальчишку с короткими седыми вихрами. Одежда на нём давно отошедшего фасона: приталенный на армейский манер пиджак и расклешённые от икр брюки. Прогуливаясь, он нет-нет да и оглянется, втыкая в пространство неуместно агрессивный взгляд. У старика, кроме этого взгляда, ничего уж и не осталось.
Явление героя
В поле воображаемого пространства появился главный персонаж. Ему около сорока. Он смущен тем обстоятельством, что некоторые люди меняют внешность по своему усмотрению. Подходит один из таких типов к зеркалу... и начинается: там убавит, здесь прибавит... Как-то нехорошо все это.
Нашему герою постоянно встречаются женщины. И немудрено, ведь он — мужчина. Если бы было наоборот, то ему постоянно встречались бы мужчины.
Однако ему постоянно встречаются женщины. Но ни с одной из них он не может оставаться достаточно долго. И не потому, что он ищет ту мифическую дуру, которая удовлетворит все его запросы и будет ждать только одного его. Нет, просто он постоянно покашливает, так: «Кхе, кхе... кхе, кхе...» А такого уж никто не станет терпеть. Ведь всякий знает, что при кашле люди должны издавать какие-то естественные звуки, но уж никак не «кхе-кхе».
А может быть, и не в этом дело. Ведь иногда он расстается с женщиной, даже не успевая при ней чихнуть. Напротив, это она все плачет и сморкается. Ее нос краснеет, плечи дрожат, зубы с утра не чищены, голова болит, да еще месячные начались. Сам мир нападает на нее. А она думает, что на нее нападает мужчина. И она говорит нашему герою не краткую фразу в три емких слова: «Ах ты, гад!», а другую, несоразмерно длинную, где каждое слово имеет несколько функциональных аналогов и из которой, в частности, следует, что она рада, что он пришел, но, к сожалению, принять не может, потому что уезжает в Африку на два дня.
— А почему не в Белорецк? — спрашивает он.
Ведь всегда, когда она собиралась в Белорецк, он спрашивал:
— А почему не в Африку?
И теперь, когда она едет в Африку, он спрашивает:
— А почему не в Белорецк?
— Потому, — тихо говорит она и на цыпочках удаляется в соседнюю комнату.
Поле воображаемого пространства сузилось до размеров странички из записной книжки. Там были цифры: 65, 47, 28. И слово «любовь», обозначающее не чувство или профессию, а имя человека средних размеров, напялившего французские вишневые колготки.
— При-и-вет, — нежно пропел женский голос из телефонной трубки.
«Кругом одни женщины!» — с досадой подумал главный герой, положил трубку и удалился.
И действительно, как они появляются? Я имею в виду, женщины. Вот маленькая девочка стоит у прилавка галантерейного магазина и смотрит на треугольный флакончик одеколона «Кармен». Советский Союз, семидесятые годы, белая этикетка, на ней черноволосая красавица с алой розой. Девочка думает: «Когда я вырасту, я куплю такую же гребенку, так же заколю волосы и буду на нее похожа».
И вот она выросла. Такая же красавица. А пацаны всё те же. Так гномами и остались. Она смотрит поверх их голов и видит другую Кармен, чуть потолще. И еще одну, и еще. И меж ними, как между елями, мыкается главный герой и не видит за деревьями леса.
Потому что там нет леса. Там море... нравоучительных изображений: «Возвращение блудного сына», «Не ждали», «Юдифь»... «Девочка на шаре»...
Кстати, «Девочка на шаре» является ключом к решению проблемы Сизифа.
Если присмотреться, оказывается, шар каменный, а Сизиф, вот он — сидит рядом и отдыхает.
И не надо, я вас умоляю, больше ничего придумывать.









