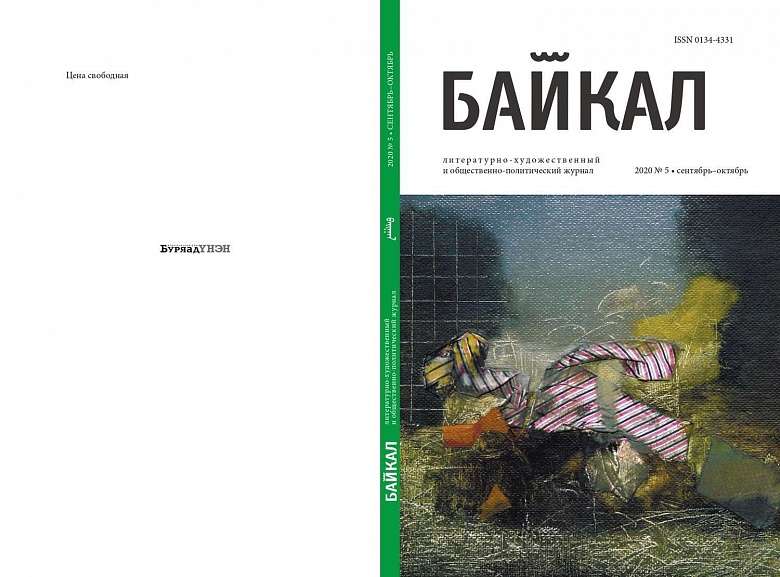
Геннадий Михайлович Литвинцев родился в 1946 году в Китае в семье русских эмигрантов. Десятилетним с родителями переехал в Россию. Окончил исторический факультет Уральского госуниверситета (г. Екатеринбург). Работая журналистом, представлял в Прибалтике газеты «Советская культура» и «Известия», позднее в Центральном Черноземье «Российскую газету». Пишет прозу и публицистику. Публикуется в журналах и интернет-изданиях. Издал три книги прозы. Победитель литературного конкурса Довлатовского фестиваля искусств (2015). Лауреат Бажовской литературной премии (2018). Живёт в Воронеже.
В ноябре 1920 года мой дед Кирик Михайлович с немалым своим семейством перешел у станции Мациевской на другую сторону Аргунь-реки и оказался на китайской территории, в городе Маньчжурия. Будущему моему отцу при этом было около десяти лет. Вряд ли дед собирался оставаться там надолго — скорее всего хотел как-то перезимовать, пока в Забайкалье всё успокоится, перестанут стрелять друг в друга. Тогда и граница между Россией и Китаем, во всяком случае в этом месте, была довольно условной, не соблюдалась строго. На «китайскую сторону» жители приграничных районов ездили за покупками, к озеру Далайнор за рыбой, перегоняли в монгольские степи пастись стада. Но с утверждением в Забайкалье Советской власти путь назад был заказан. Территория, прежде почти единая, окрасилась в два цвета: там — красные, здесь — белые… Пришлось деду остаться навечно на маньчжурском кладбище, а отцу «зимовать» в эмиграции почти сорок лет.
Теперь отца нет. Нет и всех тех, о ком написал он в своей зелёной тетради, давно никого нет. Но что значит «нет»? Где их нет? Как может не быть того, кто когда-то был?
Буддисты учат: никто никогда не жил в прошлом, как никто никогда не будет жить в будущем. Форма любой жизни — только настоящее. Для истинной жизни эта жизнь слишком коротка. Слишком быстро тело становится изношенным платьем. Но одна заря сменяет другую, заря вечерняя переходит в зарю утреннюю.
Так и остались все они там, в степи, частью природы, живут дальше в ином каком-то обличье. Кто прочтёт — и людей тех помянет.
Санный след
Сереньким февральским утром, после Сретенья, из Маньчжурии выехали сани, запряженные низкорослой рыжей кобылкой. Двое ездоков — один пошире, другой по-мальчишески тонкий — из-за неповоротливых дублёных полушубков с трудом поместились в кузове.
Приграничный городок с неохотою просыпался. Заречная сторона была вся ещё темная, здесь берегли керосин, но по улицам в центре плавали редкие огни фонарей и начиналось движение. Знакомый бакалейщик Лифучин тряс у своей лавки одеяло, из открытой двери шёл густой пар и слышался плач китайчат.
Вскоре улица кончилась и открылся степной простор. Ветер, дувший, казалось, из-за реки в спину, тут переменил направление и погнал позёмку навстречу. Мороз был не жгучий, но всё же из-за ветра седокам пришлось остановиться и переменить положение. Они вылезли из саней, покрепче затянули кушаки, накинули поверх полушубков мохнатые козьи дохи и уселись по-другому, задом наперёд. Едва притихли, лошадь сама тронула и потрусила по едва приметному санному следу.
Над степью висело низкое бесцветное небо, только на востоке пепельно-желтоватой полоской обозначался рассвет.
— Что, Митрий, не застынешь? — спросил широкий, обкладывая свои ичиги сеном.
— А не холодно, — отвечал тот, что поуже, мальчишеским голосом.
— Это пока так, только выехали, а тепло беречь надо. Ведь ты впервой на охоту?
— Впервой, дядь Саша.
— Беда, Костя захворал, валяется, тот у вас бывалый, — продолжал широкий. Помолчав, добавил: — Да ничего, и тебе когда-то начинать. Была бы голова, а шапка найдётся. Зверь, слышали, там есть, только бы не опередил кто.
Мите говорить не хотелось. Он смотрел на убегающий санный след, на отступающие последние плетни, и под скрип полозьев думал о своём, невесёлом. Вчера, в праздник, набрёл в городе на Лёньку Баранчикова. Зашли к Лифучину выпить за встречу. Вечером у казаков открывается новый клуб, рассказал Лёнька. Надо бы пойти. Но если вернёшься домой, мать может потом и не отпус-тить. Так лучше не являться, а сразу на вечёрку. Скоротать время зашли ещё в одну забегаловку. И всё равно в клубе оказались первыми. Билеты продавал Толя Макаров, тоже приятель. Увидев Митю, предложил принять по стопке в новом буфете. Получилось не по одной. Потом подходили другие ребята…
Помнит, в коридоре его остановил Тихоновский, полицейский чин, в тот день одетый в гражданское. «Ты, Измайлов, чего здесь шастаешь?» «А тебе чего?» — отвечал Митя. «Получишь по башке, так протрезвеешь». «Неизвестно, кто из нас получит», — возразил Митя. Полицейский ударил его по щеке. В ответ Митя коротким боксёрским ударом двинул ему в челюсть и, не задерживаясь, пошёл дальше. Тихоновский стал сползать по стене, однако одумался и изо всей силы нанёс ответный удар. Но пришёлся удар уже не по Мите, а по случайно проходившему Федьке Петрову. Тот в долгу не остался — и в коридоре завязался бой, одни стояли за Федьку, другие за полицейского. Митю же подхватил Зарап, знакомый армянский парень, вывел из клуба и велел отчаливать домой, даже проводил полдороги. Только он отстал, Митя повернул обратно. Драка, как снежный вихрь, крутилась уже на улице. В тесноте схватки Митя отыскал Тихоновского и невесть откуда взявшимся в руке обломком кирпича ударил по голове.
И снова спасли друзья — утащили домой. Так что поездка на охоту, конечно, пришлась кстати. Но понимал Митя, что это дело полиция так не оставит и отвечать когда-то придётся…
…Давно это было, а всё-таки было. И вот проступило, словно зимний день в оттаявшем стекле.
Отложив тетрадь, Мирон Дмитриевич встал размяться, подошёл к окну. С шестого этажа открывался широкий вид города — за дальней грядой построенных и строящихся высоток дымчато-красными языками догорал закат, а ниже, по тёмному склону, горстью огней светились особняки. Пасмурный день на глазах сменялся морозной ясностью. На небесной синеве проступали первые звёзды. Вот в такой же морозный вечер тогда накрывалась звёздным пологом маньчжурская степь…
Первую ночь провели охотники на снегу, без огня.
«Под дохами не замёрзнешь, да как назло расстроился желудок, и приходилось по нескольку раз за ночь вылезать на мороз».
Жизнь — как огонёк свечки на порывистом степном ветру.
Дар случайный
Тетрадь в зелёной коленкоровой обложке Мирон Дмитриевич нашёл в отцовском доме в годовщину похорон. Несколько лет не заглядывал в неё — не то чтобы не было интереса, а как-то смущался, робел. Не обидится ли отец? Но и позволения теперь не спросишь…
Отец ничего не говорил ему о своих писаниях, держал их втайне, а может, просто забыл сказать, когда Мирон приезжал к нему в последний раз. Тетрадь и совсем могла потеряться. На опустевшее жилище — незадолго до смерти отец овдовел второй раз — Мирон навесил замок и отдал ключ соседу. Когда спустя год приехал помянуть, навестить могилу, увидел дом разграбленным. Не было ни холодильника, ни одежды, ни даже мебели.
— Пустил тут Христа ради пожить двоих, вроде как муж с женой, а они вот что, черти, натворили, — оправдывался сосед. — Всё повытаскивали на водку. На что пить, когда не работаешь?
От отцовского обихода остались нетронутыми лишь этажерка с книгами да мрачноватого вида тяжелый дубовый буфет. Мирон знал и помнил его ровно столько, сколько знал и помнил себя. В Маньчжурию старинное изделье попало с родной стороны, вместе с другим добром, что деду удалось спасти и вместе с семейством увёзти в Китай.
В детстве Мирон представлял, как дед (дед, конечно, воображённый, живым Мирон его не застал) переправляет буфет через широкую бурную реку Аргунь. С сопок палят по нему красные партизаны, со звёздами на лбу, на другом берегу стоит бабушка и машет призывно руками. Со страха буфет валится в воду и, качаясь, плывёт по реке, прямо бабушке в руки, а дед багром вытаскивает его на берег.
Спустя много лет буфет перекочевал обратно в Россию, правда, совсем в другие края. И вот, всеми брошенный, скучно доживал он свой век в опустевшем отцовском доме. Мирон провёл рукой по резным дверцам. За стеклом ничего — ни графина, ни рюмок, ни старых, тоже ещё «царских», как говорила бабушка, плоских тарелок, только мусор и пыль.
С этажерки Мирон отобрал несколько книг по истории, им же когда-то и оставленных. Тогда-то и увидел схороненную за книгами толстую тетрадь. Почти вся она, от корки до корки, была исписана мелким отцовским почерком. Мирон положил и тетрадь себе в сумку. Ещё находка — альбом виниловых пластинок «Голоса певчих птиц», что он дарил отцу в школьные годы. Покрутил головой — и увидел в углу знакомую рижскую радиолу в деревянном корпусе. Никому не понадобилась! Мирон поставил радиолу на едва державшуюся табуретку, вставил вилку. Диск показал способность вращаться. И вскоре в пустом доме послышалось росистое кукованье, трели жаворонков, трубные звуки перелётных гусей…
Ключ Мирон вернул тому же соседу:
— Пусть живёт, кто захочет. Продажей дома мне некогда заниматься, да и живу далеко.
— А шкаф? — заинтересовался сосед.
— Себе возьмите, он крепкий.
В обратном самолёте припомнилось Мирону из детства. Бабушка любила назидать его историями из святых книжек. И однажды рассказала о попавшем на тот свет скупом богаче. Вот предстал богач пред божьим судом и видит, как чаша справедливых весов всё грузится и грузится его злыми делами. Ангелу-хранителю жалко подопечной души, слёзно просит он её вспомнить хоть какое-нибудь сотворенное в жизни добро. Мнётся богач, нечего ему сказать в оправдание. Наконец вспомнил: «Вынес я как-то нищему корку хлеба, жалобно пел он». Упала та корка на другую, порожнюю совсем, чашу весов — и перевесила тяжкий груз зла. Тем и спасся богач от геенны.
Пятилетний Мирон тут же усвоил притчевую мораль. «А давай, баба, — сказал он, — отдадим бедным наш буфет, уж он-то все грехи перетянет».
И надо же, отдал он-таки сегодня тот буфет «бедным». Вдруг перетянет!
Сон ласточки
Отец любил при случае рассказать о своей жизни, особенно её ранней поре, да многое позабылось из его рассказов или сразу же выветрилось — ленива молодость помнить и беречь предание. Запало Мирону Дмитриевичу, что прадед его Михаил пришёл в Забайкалье шестнадцатилетним за своим ссыльным отцом Василием Львовичем. Тот был сослан из западной какой-то губернии в средине позапрошлого века, похоже, за участие в одном из крестьянских восстаний. Михаил Васильевич в «диких степях» освоился и прижился, служил на Нерчинских рудниках смотрителем и в этом качестве даже был среди встречавших наследника, будущего Николая Второго, проезжавшего по Забайкалью в июне 1891 года. Прадед преподнёс цесаревичу большую коллекцию минералов края, за что вскоре были высланы ему из столицы медаль, кафтан золотого шитья и книга инженера Герасимова «Очерк Нерчинского горного округа». В этом кафтане и похоронили Михаила Васильевича в 1923 году в Маньчжурии. Вот то немногое, что запомнилось из отцовских рассказов о фамильном древе.
И, видимо, захотелось отцу оставить после себя хоть какое-то письменное свидетельство. Тетрадь, похоже, заполнялась им в старости, лет за пять-шесть до кончины, писалась урывками, не один год. Выходит, мысленно подсчитал Мирон Дмитриевич, от той первой его поездки на охоту в феврале 1929 года до записи прошло лет шестьдесят, не меньше.
А между тем вся жизнь с четырнадцати лет расписана отцом в зелёной тетрадке по годам, а кое-что даже по дням и часам. Дороги Маньчжурии и Монголии, которых немало прошёл он обозником, охотником, гуртовщиком, обозначены точными названиями тамошних сопок, перевалов, падей, озёр, солончаков, пересыхающих в зной речек, призрачных, перемещающихся в пространстве селений. Остались имена некоторых даже и случайных попутчиков, содержателей постоялых дворов и харчевен, полицейских, чиновников, целителей, шаманов и лам. В записках они немногословно говорят о своих делах, задушевно беседуют, торгуют, молятся, спорят...
Домой охотники вернулись, когда в воздухе повеяло весной, снег в степи начал оседать и таять, показались проталины, рыжие, как тарбаганий мех.
Драку в казачьем клубе Мите всё же припомнили. В мае, спустя три месяца, вызвали его в полицию. Следователь Савин огорошил: «Драку ты, Измайлов, затеял нарочно, чтобы сорвать казакам вечер». Дело шили, можно сказать, политическое. Митя заговорщиком себя не признал. Отвели подумать в подвал. Два дня просидел там. На третий утром позвали наверх к начальнику Подрезову. Начал тот распекать: «Приходила сестра твоя Дуня, просила за тебя. Бедно живёте, мать болеет. А ты пьянствуешь, да ещё и дерёшься». «Виноват, — повинился Митя, — в самом деле был выпивший». «Ладно, — сказал Подрезов. — Пойдёшь к станичному атаману Эпову, а от него к Тихоновскому — прощенья просить». Скомандовал Савину отпечатать два листка. С ними направился Митя к Эпову. Самого дома не оказалось, так жена-атаманша подписала. От них к полицейскому. Тот чистил охотничье ружьё. «Вот, Николай, послали к тебе мириться, — сказал Митя. — Не сердись, что так вышло тогда». «Ерунда, зажило, — отвечал Тихоновский, — что мне сердиться». Глядел исподлобья, но бумагу подписал. Всё же станичниками были там, дома, в России!
На этом месте Мирон Дмитриевич не может сдержать улыбки. Для чего, казалось бы, старику с таким тщанием описывать молодецкую дурь, выставлять себя в смешном виде? А просто, напрягал он память, исписывал тетрадь не для них, сыновей, или каких-то иных читателей, а для себя самого. Может, и не хотел вовсе, чтобы заглядывал кто-то другой. Себе же всё сгодится, всё дорого. Жалко забыть-утратить собственную жизнь, пусть мало кому известную, пусть сиротливую, которую до поры до времени сам считал не особенно интересной, случайной в сравнении с историческими обстоятельствами, в верчении которых довелось существовать. Только в прошлом человек чувствует себя дома. Прошлое и Бог не изменит. Оттуда никто не прогонит.
На чужой стороне
Вихри, которые ожгли и перевернули жизнь отца, не улеглись ещё и в детстве самого Мирона. Они окрашивали пугающим багровым светом рассказы бабушки Анастасии Мироновны о покинутой родине, о войне «брат на брата», за грехи посланную на русскую землю, о грабежах и убийствах «в Гражданскую». Маленьким особенно запоминается страшное. И вот осталось навсегда, будто сам видел Мирон Дмитриевич, как по забайкальской Борзе пылят дикие, заросшие, обвешанные ружьями всадники. Барон Унгерн в чёрной бурке и белой папахе, на вороном коне, грозит кому-то ташуром. «Зайдут напиться, а после них в избе тяжелый какой-то дух, приходилось долго двери настежь держать, проветривать или, лучше, обкуривать ладаном», — вспоминала бабушка. Тянутся по забайкальской степи скрипучие обозы с беженцами, в спину им с сопок гремят орудия подступавших «товарищей»…
13 ноября командованием отступавшей из Забайкалья Каппелевской группы войск было решено оставить станцию Борзя. Части 3-го корпуса начали отходить на станцию Даурия, а 2-й корпус — переходить на станции Мациевская и Шарасун.
15 ноября поручик отступавшей армии Петр Савинцев записал в своем дневнике: «Из Чинданта вышли 13-го вечером. За ночь прошли 35 верст до станции Хоронор. В поселке Хоронор простояли день, а сегодня утром, погрузившись в вагоны, приехали на станцию Даурия. Расположились в казармах. Вечер. Еще не стемнело, и в комнате, где размещен второй взвод офицерской роты, в полумраке видно всех, лежащих на нарах. После тяжелых переходов, ночевок на открытых местах да в набитых до отказа избах здесь, в этой казарменной комнате-палате, даже уютно. С полчаса назад кончился ужин. Спать рано, говорить о чем-либо в этот вечерний час не хочется, но потребность как-то выразить спокойное, несколько грустное настроение чувствуется у всех. И эта потребность выражается в песне.
Начали вполголоса, как бы нехотя. К одному голосу присоединился другой, третий. Запели даже безголосые, и красивое, никем не управляемое, но все же стройное пение всколыхнуло всю казарму. Невозможно словами передать красоту хоровой песни людей, привыкших смотреть в глаза смерти, — людей, огрубевших в обезличивающей войне и вдруг, вот в такой момент отрыва от боевой и походной повседневности, открывающих глубину своих душ... Пережитое дало этим песням свой, неповторимый оттенок. Это не разухабистая, не плясовая, не насмешливо-грустная песня Руси. Это — тихая, грустная молитва людей, отдыхающих в данный момент, но знающих, наверное, что впереди еще много лишений, ужасов и могильных, часто бескрестных, холмов... Это — воспоминания, надежды и иногда слезы людей с исковерканной молодостью, с оплеванной душою, спрятавшейся где-то глубоко в человеке и теперь неожиданно показавшей свою красоту...
Душа вышла из своего тайника — и свят этот момент ее праздника...
Вот запели сибирскую песню — песню каторжан. И невольно встала перед глазами картина одного из недавних наших переходов.
Переход в семьдесят верст. Хромая на обе ноги, идет длинная черная лента людей. В затылок дует холодный, пронизывающий до костей ветер. Повернешься к нему — и лицо твое застывает. Обутые в ботинки ноги промокли от снега, и сырой холод от ног назойливо-неприятным ощущением пробирается к мозгу. Хочется прилечь на снег и уснуть сном измотавшегося до крайности человека. Но лишь на минуту остановишься, как чувствуешь, что ноги стынут и надо идти дальше. Спишь на ходу, во сне тычешься в спины впереди идущих, но идешь — нельзя не идти...
Прошли много. Это чувствуется по ногам: они ноют от боли. Намятая ступня заставляет делать разные выверты для того, чтобы безболезненно ступать. А впереди, говорят, еще тридцать верст... Доходим до места привала. Бурятский улус. Две-три юрты. А нас около двух тысяч человек. Десятки костров, и у каждого круг греющихся людей. Сушат ноги, кипятят воду, варят мясо. Хлеба уже давно нет, и живы только мясной пищей.
Издали кажется, что громадный табор кочевников, не успевших поставить зимние юрты, ночует под открытым небом... Но не кочевники это, привыкшие к степям. Это люди, спаянные чем-то более ценным, чем таборная жизнь. Они уходят от кого-то. Они не знают даже, куда в конце концов придут, что будет с ними на следующей стоянке, да и дойдут ли до этой следующей стоянки... Некоторые не дойдут, свалятся на дороге и уснут мертвым сном. Или их сразит пуля. А для выдержавших муку этого похода, для уцелевших — еще много, много впереди подобных костров...»
После длительных переговоров власти Маньчжурии дали разрешение на перевозку вышедшей из Забайкалья Дальневосточной армии по Китайской Восточной железной дороге в Русское Приморье. Сдавшие оружие китайцам каппелевцы, а также семеновские части стали грузиться в железнодорожные эшелоны. Общая численность перебрасываемой армии составляла с семьями предположительно 25 тысяч человек, при ней до 10 тысяч лошадей. Перевозка эшелонов — а их потребовалось не менее шестидесяти — должна была занять около месяца. Тем из бойцов, кого смертельно утомила боевая страда, у кого находились по линии дороги родные, знакомые и друзья, способные обеспечить кров и убежище на первое время, удалось рассеяться по Маньчжурии, при проезде через Харбин и другие крупные населенные пункты. Большинство забайкальских казаков покинули эшелоны на станции Хайлар и ушли в Баргу, в район так называемого Трехречья, где присоединились к своим землякам, осевшим на китайской стороне двумя-тремя годами раньше.
Русское население в Харбине и полосе отчуждения Китайской Восточной железной дороги и до революции составляло несколько десятков тысяч человек. С Гражданской войной Харбин, другие города и станции КВЖД стали заполняться беженцами и эмигрантами. Измайлов надумал было переждать схватку близ железнодорожной станции Мациевской, в пустовавших дворах и домах богатого земляка Трухина. Сюда он с сыновьями перегнал свой скот, навозил сена, приготовился зимовать. А поздней осенью станцию занял отряд каппелевских войск. И кавалеристы стравили все припасы, правда, заплатив за них двести рублей золотом. 21 ноября, в Михайлин день, начался исход белых частей из Забайкалья на китайскую сторону. Делать нечего, пришлось и деду перегонять свой скот в Монголию, к знакомому пастуху Эренчину, а самому переправляться со своим немалым семейством туда же «за речку».
Первой на чужой территории станцией была Маньчжурия, заложенная при границе, среди сопок Сахарная, Офицерская, Синие горы, в начале строительства КВЖД. На исходе Гражданской войны мирную, патриархальную жизнь возникшего всего-то за двадцать лет до этого русского городка смело яростным людским потоком. Сибирские казаки, каппелевские офицеры, монголы-хорчены, бывшие военнопленные австрийцы и чехи — все бездомные, голодные, оборванные, обозлённые поражением. Тут же тысячи и тысячи бежавших от войны и грабежей забайкальских жителей.
Скот Измайлова, не привыкший зимовать без сараев и корма, весь в ту зиму пал в монгольской степи. Остались в живых две коровы и четыре коня. В Заречном посёлке наспех построили землянку, где своих помещалось десять человек, да ещё квартиранты. Их пустили из-за того, что могли доставать дрова. В тесноте и сырости все часто хворали.
Деду суждено было остаться в чужой земле навеки, а сыновьям его «зимовать» в эмиграции сорок лет...
Панихида по кашлю
Девятилетнему Мите запомнились каппелевские кавалеристы, молчаливые утомленные всадники — шнырял он между ними в те осенние дни, восхищался конями и оружием, хотя и переживал, конечно, за потраву отцовского сена. Сам Каппель до Мациевской не дошёл — он погиб в дни Великого ледового похода, когда доверенная ему Белая армия три тысячи вёрст — от Омска до Забайкалья — отступала по снегу и льду, при сорокаградусном морозе. Генерал шёл впереди войска. Провалившись под лёд, обморозил ноги. Лишь на третьи сутки в таёжной деревне Барга простым ножом без анестезии сделали ему ампутацию стоп. Началась гангрена, воспаление лёгких. На рассвете 25-го января Каппель попрощался с товарищами, снял с руки кольцо, с груди Георгиевский крест, просил передать жене. Было ему 37 лет.
Сначала генерала похоронили в Чите. Но осенью того же 20-го года из-за наступления красных гроб генерала вынули из земли и отвезли в Харбин, на подворье военной Свято-Иверской церкви. Встал над могилой черный гранитный крест, охваченный у подножья терновым венком. Когда в 1945 году в Харбин вошли советские части, говорят, у могилы побывали генералы Малиновский и Василевский, постояли в молчании. А десять лет спустя по приказу советского консула памятник был уничтожен, место закатали асфальтом.
В декабре 2006 года Измайлова, как специалиста по истории Китая и Белой эмиграции, попросили поехать в Харбин. Услышав, что речь идёт о поиске и возвращении на родину останков генерала Каппеля, Мирон Дмитриевич согласился.
В Харбине стояли солнечные, с легким морозцем, бесснежные дни. Мирон Дмитриевич приезжал сюда не однажды — и всякий раз искал следы прежнего форпоста империи. Русского Харбина, о котором много рассказывал отец — он бывал в нём то на заработках, то на леченье — давно уже нет. И нынче отец, доведись ему каким-то чудом здесь очутиться, в городе ничего бы не признал и прежнего ничего не нашёл. С первых шагов оглушает ритм современного человейника — небоскребы, реклама, огни, круговращение транспорта, мельтешение плотной массы народа. Такой же китайский мегаполис, как и другие. Но присмотревшись, настроившись на волну, замечаешь особняк в стиле модерн, явно русского происхождения, за углом другой. А там и церковь, ещё старинные здания — и город становится ближе, теплее. Вот эту улицу отец, пожалуй, и узнал бы — она осталась наподобие декорации к фильму о белогвардейском Харбине. Так и видишь, как гуляют по ней Шаляпин, Вертинский, поэт Арсений Несмелов…
Без Измайлова харбинская операция не могла обойтись — один он, и то приблизительно, знал местонахождение могилы Каппеля. План, нарисованный от руки неизвестной русской женщиной-харбинкой, ему прислал из Австралии друг детства, ныне житель города Брисбена.
Узкая, кривая, беспорядочно застроенная улица привела к Свято-Иверской церкви. Вот и показалась она — полуразрушенная, обезглавленная, с одним восстановленным крестом. Мирона Дмитриевича дожидалась поисковая группа. Развернули рисунок. Крестик на плане указывал место у северной алтарной стены. Огляделись, прикинули, мелом разметили по брусчатке.
Работы начались на другое утро. Над местом раскопа натянули тент: китайская традиция строго требует, чтобы лучи солнца не попадали в открытую могилу. Приехавший из Москвы в составе группы протоиерей Димитрий отслужил краткий молебен. Рабочие-китайцы начали срывать отбойными молотками кирпичную брусчатку. Земля не промёрзшая, работа шла ходко. На глубине двух с половиной метров открылся саркофаг — широкий деревянный ящик, тяжёлый и прочный. Дерево хорошо сохранилось. Внутри саркофага гроб. На крышке серебряные инкрустации — двуглавый орёл и венок из листьев. Под крышкой пальмовые и хвойные ветви, образок Божьей Матери, ленточка Георгиевского кавалера. Мундир с погонами высшего офицера генерального штаба. Сомнений не осталось — в раскопе прах генерал-лейтенанта Владимира Оскаровича Каппеля.
Образок передали священнику. К северной стене притиснулся катафалк. Отец Димитрий творил панихиду с курящимся кадилом в руке, свечи в морозном, безветренном воздухе горели ровно и ясно. Отзвучали молитвы, катафалк с обретенными останками отъехал от церкви — и тут же на Харбин обрушился тяжёлый густой снегопад, в мгновенье преобразив его в заснеженный русский город.
13 января 2007 года, некрополь Донского монастыря. Пришедшие встретить возвращающегося из изгнания Белого воина входили в ворота в одиночку и большими группами, растекались ручьями среди склепов и надгробий старинного кладбища. Мирон Дмитриевич узнавал военачальников и политиков, государственных чиновников и вожаков патриотических движений. Ещё больше порадовало великое множество молодых лиц. Где-то здесь же находились внуки или правнуки генерала Каппеля, но Мирон Дмитриевич не стал их искать, не хотел портить высокого напряжения момента.
В зимнее небо вознёсся траурный марш — и из собора Донской обители вышли усердно кадящие священники, за ними на плечах кадетов показалась скорбная ноша. Да нет, вовсе не скорбная то была минута — время печали и слёз по героям Гражданской давно миновало — а светлая, ободряющая. Давно, давно пора русским людям подвести черту под той роковой усобицей, забыть старые обиды и страхи, мешающие смотреть в будущее, единить силы. О том и говорили над разрытой могилой, поместившейся между надгробиями генерала А.И. Деникина и философа И.А. Ильина, тоже недавно возвратившихся с чужбины.
Зажглись поминальные свечи. Отлитыми в золоте словами литии приоткрылись на миг Вечность и Царство Небесное. Грянул воинский салют — в честь Белого ратника, в память Ледового похода и тех, кому не суждено возвратиться, хотя бы прахом, в родную землю.
А над могилой Каппеля позднее поставили памятник — точную копию разрушенного харбинского.
Святитель
Так, дальше, дальше — листает зелёную тетрадь Мирон Дмитриевич.
А вот это интересно — как теплым осенним днём 1922 года городок Маньчжурия встречал прибывавшего из Харбина епископа Иону. Тем же вечером владыка отслужил в соборе Всенощную. Бас диакона Антония Галушко, соборный хор регента Павла Шиляева придали службе невиданную прежде торжественность и красоту. Все дивились молодости 34-летнего епископа, но в первой же проповеди он показал себя умудренным пастырем, ведающим пути к людским сердцам. Владыка говорил, а собор отвечал ему вздохами и плачем. Люди не стыдились слёз, оплакивая потерянную Россию, убитых сродников, свою участь изгнанных.
Тяжелый крест достался епископу Ионе! Маньчжурия представляла собой становище, в котором вперемежку с голытьбой и бывшими каторжниками разместились казацкие атаманы, белые офицеры, сибирские заводчики и купцы, сумевшие спасти кое-что из своих капиталов, местные предприниматели и коммерсанты, вполне обеспеченные железнодорожные служащие. Начались взаимные претензии и сведение счетов. Ночами городок содрогался от криков, стрельбы, пьяных драк, грабежей, убийств, вооружённых налетов с «той стороны». Горечь поражения, отчаяние выливались у многих в бесшабашное желание хоть ещё денек прожить «по-старому», прогулять или проиграть всё, что оставалось в карманах. Расцветали и сгорали десятки ресторанов, увеселительных заведений, опиумных притонов, игорных и публичных домов.
И как быстро всё посерьёзнело и построжало, образумилось и просветлело в городе с явлением пастыря! Всего-то три года служения в Маньчжурии были отпущены судьбой епископу Ионе, а он успел создать и поставить на ноги сиротский приют, два начальных ремесленных училища, общественную столовую, ежедневно кормившую Христа ради до двухсот человек, библиотеку духовного просвещения, амбулаторию для бедных с бесплатной помощью и лекарствами. Как-то умел находить средства владыка. В Китае, в Северо-Восточной его части, называемой Маньчжурией, ещё до революции сложился слой русских промышленников и предпринимателей. Воспитанные в религиозной вере, не все в православной, но все в принятых тогда традициях благотворительности и меценатства, они в большинстве своём участливо отнеслись к беде соотечественников. Не чудо ли, что при великом масштабе бедствия беженцы смогли обустроиться и наладить сносную жизнь на чужбине всё же быстрее, чем красные у себя дома. Потому-то и в двадцатые, и в тридцатые годы кидались под пулями в Аргунь и Амур молодые мужики, переплывали с той стороны «к своим» в Китай, спасаясь от советских порядков, от голода и расстрелов. Почти всех их потом выловили — кого в 29-м, во время боевого рейда Блюхера на китайскую территорию, кого в 45-м, после победной войны с Японией.
В открытую епископом Ионой школу Митя явился самочинно, вроде толстовского Филиппка, сразу же на урок. А дело было уж в ноябре.
— Где же ты раньше был? — спросила учительница Ольга Андреевна, невысокая, полная девушка, из-за болезни коротко, по-мужски остриженная. — Теперь поздно, класс набран.
Потом сжалилась:
— Ну, хорошо, посиди, я на перемене поговорю с директором. А что пришёл — молодец.
Проучился Митя всего четыре класса, но этого хватило, чтобы писать почти без ошибок и хорошим почерком, полюбить умные книги, до старости наизусть помнить русскую стихотворную классику. В школе каждый день поили чаем с сахаром и сухарями. Бедным давали учебники и тетради, а то и одежду. На рождественской лотерее Мите достались стяжённые штаны, в них было тепло зимой ходить на уроки.
Из Австралии, населенной многими потомками бывших маньчжурцев, прислали Мирону Дмитриевичу фотографию похорон епископа Ионы. 1925 год. Дворик Свято-Иннокентьевского собора, уйма народа, плывущий над головами гроб. Множество запечатленных лиц: люди в те годы ещё оборачивались на вспышку фотографа. Мирон Дмитриевич с лупой разглядывал фотографию — а не выглянет ли из пестроты мальчишечье лицо отца? Вот какой-то подросток… Нет, не он!
Внутренняя Монголия
В тринадцать лет Мите из-за бедности пришлось расстаться со школой и отправиться на рыбные промыслы Далайнора. Он подрядился к китайцу Ки Шун-дэ на отцовских лошадях возить улов в города.
Началась бродячая жизнь обозника, гуртовода, охотника. Дороги Внутренней Монголии, бесконечные сопки, перевалы, пади, солончаки, пересыхающие в зной речки, призрачные, перемещающиеся в пространстве войлочные селения, китайские постоялые дворы с их прогорклой смесью кухонного чада, аргального (кизячного) дыма, конюшни и опия... Мир тот давно истлел, пропал, рассыпался в прах, развеян ветром и временем. Но сохранены в зелёной тетради умолкшие голоса…
Молодой монгол Абирмит охранял мост на реке Уршун, брал за проезд с каждой подводы. Поил проезжих чаем с верблюжьим молоком и солью. Не отказывался и от их угощения. Особенно нравился ему русский хлеб. «Наши старшие и сам угурда (волостной начальник) учат нас русских не трогать, не обижать, — говорил Абирмит. — У них здесь своей земли нет, зато они всё умеют — и хлеб растить, и дома строить, и машины разные делать, и храбро воевать. И за скотом могут ходить не хуже нас. Надо с ними дружить».
Мирон Дмитриевич усомнился было, верно ли записаны отцом монгольские имена, ведь он запоминал их на слух. Проверил — всё правильно.
Рассказывал Абирмит, как впервые увидел заехавший к ним в аймак автомобиль. Все сбежались смотреть. «Как так — ни коня, ни быка нет, а бежит, да так быстро, как ветер?» — спрашивали старики. След за машиной щупали, думали горячий. Говорили: «Вот какая голова умная у русских!»
Делился Абирмит и своими заботами: «Мать старая, скоро умрёт. А что тогда ему скажет лама, что он вычитает в святых книгах? Может, скажет, что её надо бросить там, где вчера ночевали лебеди или бродили джейраны. Или там, где лежит большой красный или синий камень. Надо быть готовым. Или велит просто зашить в мешок, положить на двуколку, разогнать лошадей, где упадёт — там её место».
Несколько лет подряд Дмитрий с артелью ездил в степь к богатому скотоводу Бараху стричь овец. Тот встречал их радушно — резал барана, устраивал обед с выпивкой.
Вот такой был Бараху — низкий, плотный, с бритой головой, с длинной, хотя и жидкой, косой на затылке. Наряжен в халат из синего китайского шёлка, в жёлтые китайские сапоги и плоскую шляпу с отвороченными вверх полями. Халат подвязан кушаком, синим или бордовым, на кушаке неизменно кисет с табаком, трубка и огниво. А вообще-то монгол щеголяет не тем, как он сам выглядит, — к собственным нарядам он довольно равнодушен — а тем, как разодет его конь, какое на нём седло, насколько богато украшена серебром сбруя.
Уняв громадных лохматых собак, Бараху у юрты приветствует приезжих вопросами «Мал-сэ-бейна?» и «Та-сэ-бейна?», то есть «Здоров ли ты? Здоров ли твой скот?». Начинается взаимное угощенье табаком — каждый предлагает свой кисет, папиросницу или раскуренную трубку. Старший из стригалей достаёт из мешка обязательный подарок, хадак — полотенце или небольшой кусок шелка. Хозяин не останется в долгу, но свой хадак он преподнесёт при расставании.
Вышедшая из юрты хозяйка щурит на приезжих русских парней и без того суженные, почти закрытые веками глаза. Косы по обеим сторонам груди заплетены лентами и бисером. Лоб украшен серебряной бляхой с красными кораллами, в ушах большие серебряные серьги, на руках кольца и браслеты. Одета в такой же халат, что и у мужа, только без пояса, поверх фуфайка без рукавов.
Хозяин приглашает в своё жилище. Весь пол войлочной юрты в коврах и атласных подушках. На них, разувшись, и садятся гости. На низкие столики ставится первое непременное угощенье — кирпичный чай. Монгол не пьет сырой, холодной воды, но всегда горячий чай с солью и молоком. Захочешь подкрепиться — сыпь в чашку с чаем жареное пшено, клади масло или курдючный жир. Чашки у Бараху изящной китайской работы, из чистого серебра. В дугуне, домашней кумирне, перед небольшим изваянием Будды стоит чаша из человеческого черепа, разрезанного пополам и искусно оправленного в серебро. Такую ритуальную посуду мастерят ламы в дацанах.
Но вот и подают бухули — сваренное большими кусками и затем зарумяненное на широкой сковороде мясо, кирстен — поджаренную на открытом огне вместе со шкуркой спинку барашка, любимые кушанья любого монгола. Чем жирнее, тем лучше. Под такое жаркое хорошо идёт ханжа, китайская гаоляновая водка. Сам хозяин не хочет сегодня напиваться и ограничивается кумысом.
У него в этот день большие дела. Все стада и табуны — а владел Бараху двадцатью тысячами овец, сотнями лошадей, быков и верблюдов — согнаны в одну большую падь Хаматуй, чтобы освятить скот от падежа, краж и болезней, просить у неба обильный и здоровый приплод. Приглашённый из монастыря лама в желтом одеянии объезжает падь на запряженной двуколке, кропит скот водой, а жена хозяина ходит за телегой со стопкой священных книг на голове.
После очередного чаепития лама выходит из юрты и трубит в большую морскую раковину. Это зов к молитве. В юрте несколько учеников, тоже в желтых одеждах, сидят на полу и, слегка покачиваясь, нараспев читают. Лама на возвышении, лицом к Будде. Временами он прерывает бормотание учеников громким возгласом, за ним повторяют и все молящиеся. При особых знаках ламы ученики бьют в бубны или в медные тарелки, помахивают курящимися кадилами.
Богу молятся на тибетском языке. Священная книга Ганчжур — 108 томов. Их изучают в монастырях-дацанах, избранные отрывки читают вслух при молебнах. Простые же монголы обычно обходятся молитвой из четырех слов «Ом мани падме хум». Говорят, в мантре заключается вся буддийская мудрость.
Начинается обряд очищения: из замешанного хозяйкой теста лама лепит, искусно и быстро, крошечные фигурки людей, лошадей, овец и верблюдов, и после долгих молитв — одну лишь мантру «Ом мани падме хум» повторяют 108 раз — бросает фигурки в жаровню с горящими углями. Для пущей острастки злых сил работник-бурят снаружи юрты ещё и стреляет трижды вверх из ружья.
Однако зло оказалось не из пугливых: поздним вечером, когда в юрте сытно угощались лама с учениками, тот же наёмный бурят оседлал двух подготовленных на скачки хозяйских коней и, прихватив ружьё и ещё кое-что ценное из сундука-чингилина, ускакал в степь. Только утром Бараху увидел пропажу, послал погоню. Да разве догонишь вчерашний ветер!
Гучин гурбу — тридцать три несчастья
Тот же дядя Саша Усольцев, по-монгольски Санька-будун («толстый»), летом 1935 года, в июне, позвал Митю поехать с обозом вглубь Монголии, в её пустынную западную сторону. Александр Львович бросил к тому времени беззаконный, да и небезопасный, охотничий промысел, занялся более прибыльным делом — скупкой шерсти и пушнины. Заодно возил с собой для продажи кое-какую одежду, посуду и бакалею, но вся эта торговля часто служила лишь прикрытием для рискованной контрабанды водки и табака. «Была бы голова, а шапка найдётся», любил он повторять монгольскую пословицу. Для дальней поездки собрал артель из семи человек — пятерых русских и двух бурят. Обоз составился из двенадцати вьючных верблюдов и пяти верховых лошадей.
До озера Далайнор маньчжурцам места наезженные, привычные. От верховьев реки Шара-Мурен потянулись песчаные сопки-барханы Гучин гурбу, по-монгольски «Тридцать три», то есть бесчисленное множество. То совсем оголенные, то заросшие травой или тальником. Трудно выбрать здесь путь: взберёшься на возвышенность, глянешь, а во все стороны плавные линии новых горбов, таких же точно, словно сделанных по одной мерке. И так больше ста вёрст.
Впрочем, монголы тогда не знали ни вёрст, ни километров. На вопрос «Далеко ли до такого-то места?» кочевой человек отвечал: столько-то дней на верблюдах, столько-то на верховом коне. И добавлял вдогонку: «Если хорошо будешь ехать».
Барханы Гучин гурбу стали переходить в ровную каменистую степь, когда поднялся сухой западный ветер, закрутил, заметался из стороны в сторону. К вечеру ураган охватил серо-коричневой мглой весь небосвод. Караван укрылся среди небольших сопок, люди спешились, разгрузили верблюдов. Всю ночь гремел ветер, в лицо хлестало песком и мелкой галькой. А мимо косматыми призраками проносились сорванные с корней кустарники. К утру местность изменилась до неузнаваемости: некоторые сопки были взвихрены и развеяны так чисто, как будто их никогда и не было, на ровном месте явился высокий бархан, а где-то наоборот выскребло котловину.
Проходивший монгольской степью, примерно по тем же самым местам, Мар-ко Поло в «Книге о разнообразии мира» рассказывал о голосах, сманивающих путников в сторону: «И как станет человек нагонять своих, заслышит он говор духов, и почудится ему, что товарищи зовут его по имени, и зачастую духи заводят его туда, откуда ему не выбраться, так он там и погибает. И вот ещё что: и днём люди слышат голоса духов, и чудится часто, точно слышишь, как играют на многих инструментах, словно на барабане». А то среди странного мерцания воздуха без конца проходят навстречу вихри, караваны и войска призраков, толпы лиц, бесплотно наседают на ездока, прут сквозь него и вдруг рассеиваются, чтобы через мгновенье кучно объявиться на горизонте. И оттуда кричат, машут руками, зовут с собой — в страну, откуда путники не возвращаются. Не могут или не хотят вернуться — никто не знает.
Той ночью и люди, и животные в обозе потеряли всякое представление о времени и пространстве. Утро почти не прибавило света, небо всё так же осыпалось песком с мелким камнем. Казалось, этому не будет конца. Четырех верблюдов не могли поднять на ноги. Тут уж ничего не поделаешь: если тумэн-верблюд отказывается вставать, значит, конец, никакие крики и побои его не поднимут. Останется умирать или, бывает, отлежится, накопит сил и через неделю-две явится сам. Кое-как увязали груз, оседлали коней, бросив павших верблюдов, двинулись в пыльной мгле, без дорог и примет. Хуже всего, у Дмитрия разболелся и потёк правый глаз, с вечера нахлестало его песком. Да и левый слезился, смотреть было больно. Промыли из фляжки — не помогло. Пришлось забинтовать. Ехал вслепую, держась за поводья. Укачивало, голова кружилась…
Улыбка Будды
Очнувшись, Дмитрий увидел перед собой монгольское молодое лицо, красивое, почти детское. Одетый в желтый халатик, мальчик сидел рядом с ним на полу, поджав ноги, с книгой в руках и тихонько напевал, покачиваясь из стороны в сторону. Над ними круглился белёсый войлочный купол, похожий на небо, когда оно в высоких кучерявых облаках. В небе оконце, в него мутновато лился медовый солнечный свет. Почувствовав митин взгляд, мальчик немедля вскочил на ноги, схватил где-то и подал кружку с водой. Дмитрий хотел взять, но руки его не послушались, и кружка упала на пол. Мальчик засмеялся, зачерпнул снова и, улыбаясь по-детски, стал поить Митю из своих рук. Сил у того хватило на два-три глотка. Уронив голову на подушку, Дмитрий стал ощупывать своё лицо. Правый глаз завязан — вот почему он видит так мутно. Главное — где он? Куда подевались остальные? Где Усольцев? Дмитрий спрашивал, но мальчик в ответ только улыбался. Потом снова протянул кружку. Он явно не понимал его — то ли из-за незнания русских слов, то ли из-за того, что язык у Дмитрия — и он сам чувствовал это — едва ворочался, а голос был похож на мычание.
Снова поплыли, закружились хмурые облака, подул ветер, зашуршал, посыпался с неба песок…
— Держи, держи его! — Усольцев гнался за тарбаганом, а тот не давался в руки, петлял и метался среди сопок. Потом встал на задние лапы — и сам пошёл на Усольцева, угрожающе щёлкая и скрежеща зубами. Александр Львович прыгнул на своего Хунхуза и дал дёру, только камни летели из-под копыт.
— Куда ты, дядя Саш, куда ты? — кричал ему вслед Дмитрий, пытаясь догнать. Да тот улетал всё дальше, превращаясь в облако. А тарбаган, теперь уже величиной с медведя, подняв лапы, стал наступать на него…
— Тихо, тихо! — вдруг проговорил кто-то в темноте.
Дмитрий открыл глаза — и в свете тусклой свечки разглядел сидевшего рядом белобородого старика. Старик внимательно смотрел на Митю узкими монгольскими глазами и тихо покачивал головой.
— Проснулся? — ласково спросил он. — Вот и ладно, молодец.
Сухой, морщинистый, в тёмном красноватом халате и в такой же круглой шапочке на голове, настоящий бабай детской сказки, старик сразу понравился Дмитрию. От него приятно пахло лошадью, полынью и сеном.
— А где я? — спросил Дмитрий.
Старик сухонько засмеялся:
— У своих, угу, бояться не надо. Я лама Бадмаев, могу лечить, угу. Глаз болит?
— Не знаю, — сказал Дмитрий.
— Смотреть надо. Эй, Чагатай!
Подбежал мальчик, тот самый. Старик что-то велел ему по-монгольски, а сам стал разбинтовывать митин глаз. Мальчик поднёс подсвечник поближе.
— Ох, ом мани падме хум! — бормотал старик. — Падме хум! Что видишь?
Он закрыл ему ладонью левый глаз.
— Свечку едва-едва.
— Угу. А ещё что?
— Ничего, муть какая-то.
— Ом мани падме хум! Лечить надо, угу.
И снова что-то сказал мальчику по-монгольски. Тот принёс баночку и бинты. Старик густо намазал кусок ваты мазью и положил его на правый глаз, туго перевязал. Слегка защипало. Потом он долго, раздвинув веки пальцами, смотрел в левый глаз. И стал намазывать другой кусок ваты.
— А как же я буду смотреть? — забеспокоился Дмитрий.
— Будду молитвам не учат, — засмеялся лама. — Смотреть потом.
И закрыл-замотал второй глаз. Сухой костистой ладонью потрепал по руке.
— Лежи. Что надо — зови Чагатай. Хорошо будет, угу — ты попал в Шара-Мурен.
Дмитрий слышал про этот монастырь, он лежал на их пути.
— А где Усольцев?
— Сашка-будун? Дальше пошёл, в Батухалки, угу. Вернётся, не бросил. Лежи.
Старик снова погладил по руке и ушёл. А Чагатай стал кормить его мясом и поить солёным чаем из своих рук.
Три недели провалялся Дмитрий в монастыре. Каждый день приходил лама, лечил, разговаривал. Левый глаз зажил быстро, а правый видел плохо и в конце концов покрылся белесым пятном. Пришлось на другой год ехать в Харбин.
Но вот однажды под вечер знакомый голос громко, торопливо заговорил с кем-то по-монгольски — и в юрту зашёл Усольцев, нагнувшись, оглядывался в темноте.
—Вот ты где! — разглядел Дмитрия. — Поправился? Бадмаев — лекарь на славу. Благодарю, а он не берёт. Чая только и взял, байхового. Научил тебя монгольскому, говорит. Я теперь с тобой по-монгольски… Мал-сэ-бейна? А надоело, наверно, тебе здесь. Собирайся, домой едем. Как мы? А нам что! Все живы. Семь верблюдов купил, груза много. Голова есть — шапка найдётся. Чагатай, чаю давай!
За расставанием — встреча
С юности Мирон замечал свои отличия от отца-степняка: сам он был в материнскую родню — повыше ростом, постройнее, светлее лицом. И борода у него росла не чёрная, а каштановая, с рыжинкой. Эти отличия, как он помнит, тогда радовали его. А ещё он сознательным принуждением выработал в себе прямую, без раскачки, упругую походку, быстрый и лёгкий шаг, гимнастикой и тренировками сформировал более гармоничные пропорции фигуры. Образование, занятие наукой, преподавание, поездки, большой круг общения, мыслительный кругозор тоже, конечно, сказались на физиономии, придали ей чаемую интеллигентность.
Приезжая к отцу на непродолжительные свидания, Мирон любил послушать его застольные рассказы. И всегда они были о том давнем, унесённом временем, теперь и подобия никакого не имеющем мире. Отец приобрел привычку всех долгожителей — питаться памятью. Он прекрасно ориентировался в именах, датах, однако образы уже становились малокровными, будто изнашивались от времени, окостеневали. Видно, с годами не только вещи, но и тени вещей тускнеют и выцветают.
Нельзя сказать, что отец не интересовался настоящим. Нет, он получал кое-какие газеты, рассуждал о политике, но сравнительно с прошлым всё нынешнее выходило у него скучным, мало понятным, блёклым. Душой он остался там, в Маньчжурии, на просторах степной Барги. Жизнью самого Мирона отец мало интересовался, особенно его научными, карьерными делами, с советами никогда не лез, здоров — и ладно. Сам в гости, пока позволяли силы, наезжал ежегодно, но с женой Мирона и с внуками общался без особенной теплоты. С детьми не умел сходиться, из-за того, наверное, что и своих в былые времена из-за непрестанной занятости мало видел. Приезжал одетым по старой харбинской моде — в длинном тёмном плаще или в кожане, под ними френч и галифе, в мягкой широкой шляпе. В пятидесятых годах такой фасон сразу выдавал репатриированных эмигрантов. В семидесятые наводил на мысли о престарелом актёре, донашивающем театральный реквизит.
Мирон Дмитриевич потянулся к тетради, сердцем почуяв, что со смертью отец не отдаляется от него, а, наоборот, возвращается, становится ближе, роднее.
Всё больше сходства он замечает в своих привычках, звуках голоса, в интонациях, в прищуре глаз. Да ведь и походка же возвращается к нему та самая, торопливая, враскачку, отвергнутая в юности и вроде бы навсегда преодолённая. Вот и сквозь среднерусское обличье заметно проступили черты степняка-забайкальца. Глубоко сидит корень! Всю жизнь он мог считаться столичным жителем с вполне европейской внешностью, не бывать ни разу в тех местах праотеческих, не знать их, не любить, отвергнуть — но в итоге родина, степная Даурия, земля Чингисхана, сама находит, напоминает о себе, и он со смущением слышит в своём сердце сухой шелест её ковыля, её казацкие песни, её бубен шаманский, гортанный её зов…
Давно, с XVI века, доходили до русского правительства в «отписках», «скасках на писме», «распросных речах», «доездах» (отчетах) слухи о расположенных за Байкал-озером богатых «Даурских землях». Для проверки этих донесений были предприняты походы Петра Бекетова и Максима Перфильева. В 1653 году «первые» русские основали Иргенский острог (между р. Хилок и оз. Иргень) и Ингодинское зимовье (на слиянии рек Ингода и Чита). В том же году сподвижником Петра Бекетова Максимом Уразовым основывается Малый острожек на правом берегу Шилки близ устья реки Нерча. Первый даурский воевода А.Ф. Пашков, получивший «Наказ на воеводство в Даурской земле», основал в устье Нерчи Нелюдский тунгусский острог, который впоследствии стал называться Нерчинским. Так в 60-х годах XVII века произошло присоединение Забайкалья к России. Процесс освоения земель русскими в XVI-XVII веках носил поистине взрывной характер: если «бледнолицые» заселяли просторы Северной Америки на протяжении почти 350 лет, то русские от Урала через всю Сибирь до Тихого океана прошли в шесть раз быстрее — за шестьдесят лет!
Мама Мирона, рано умершая, была родом из казачьей станицы Курунзулай, возникшей в 1739 году. В более давние времена местность обживали семьи тунгусов, дауров, бурят, занимались они скотоводством, охотой, сбором лесных даров. Название села бурятско-монгольское: в здешних густых лесах водилось множество хуры (глухарей). Хуры имеют обычай устраивать залан (токование). Получается Хурын-Залан. Русским слышится Курунзулай. Когда-то тунгусы имели здесь медный рудник, плавили руду, недалеко от села сохранились останки шахты и доменной печи. Рудник со временем истощился, тунгусы покинули эти места, хотя в горах на большой глубине много меди. Но подлинное диво в соседнем селе Конуй (Кондуй). Здесь обнаружено целое городище с остатками великолепного дворца площадью около трёх тысяч квадратных метров. Кондуйский городок — усадьба ранних монгольских властителей. Дворец возвышался на двухметровой насыпной платформе, окружённый двухъярусной террасой и пандусами. На нижней террасе брусья балюстрады опирались на каменные изваяния драконов. В центральном зале стояли деревянные колонны на гранитных базах. Кровля дворца была многоярусной и покрывалась черепицей, украшение стен рельефное с фигурами драконов, птиц и зверей.
Отец вышел из поселка Алгача Александровско-Заводской волости. Алгач — слово эвенкийское, означает солнцепёк, к югу обращённый склон. Поселок был знаменит своей тюрьмой для «политических». Алгачинская тюрьма старейшая в крае, времён Петра I. Здесь отбывали каторгу участники польских восстаний 1830-1831 и 1863-1864 годов, террористы-народники, эсеры и представители других российских революционных партий, в том числе знаменитые Мария Спиридонова и Фанни Каплан. Труд узников использовался для добычи свинцово-серебряных руд. Ликвидирована после Февральской революции 1917 года.
Алгачинцы пользовались в Забайкалье нелестной славой людей пьющих и буйных. «Сильно здесь развито пьянство, — писала газета «Новь» в августе 1911 года. — Пьянствуют и дети, и взрослые. Дети пьют потому, что пример подают родители и старшие, а последние пьют потому, что все пьют. 16 августа на престольный праздник съехалось много молящихся. Хор арестантов местной тюрьмы пел отлично, исполняя классические вещи. После литургии началось поголовное пьянство, а к вечеру — ссоры, брань, драки. Наутро в селе, как в военном лазарете, множество раненых».
Соединились мать и отец уже в Маньчжурии, в 1938 году.
Зареченские ухажёры
Парни из Заречного — малограмотные, грубоватые, с загорелыми дочерна лицами — завидными ухажёрами не считались. Учиться им было некогда. Если и случалось свободное время, шлялись по посёлку, играли в карты или катали бабки. Проигравшие ставили магарыч. Городские девушки, особенно из богатых семейств, с зареченскими не водились. Когда дело пошло к тридцати, Дмитрий сам выбрал для женитьбы тихую соседскую девушку.
Мирону Дмитриевичу не терпелось узнать, что же написал отец о встречах с невестой, будущей его матерью. Что сказал о ней, какими словами выразил свои чувства жениха, мужа? Но нашёл в тетради лишь несколько скупых строк о свадьбе — кто венчал, кто гулял, да как играли — и ничего сокровенного, будто стеснялся отец передавать бумаге сердечные дела. Забыл их? Или слишком помнил, чтобы записывать? Ещё больше огорчило, что в тетради никак не засвидетельствовано его, Мирона, рождение. О появлении старшего брата — одна строчка. Неужели так мало значили для него жена и дети? Нет, Мирон помнил, как отец страдал из-за смерти матери, чтил её память, пять лет ходил бобылём. Но в тетради об этом — ни слова.
«Товарищ Блюхер, даёшь отпор!»
В июле 1929 года китайские власти объявили в Маньчжурии военное положение: ждали советского нападения. Город стал похож на развороченный муравейник — кругом рыли окопы, противотанковые рвы, строили казармы и доты. Лопатами орудовали в основном китайцы, тысячами согнанные из глубин страны. Гужевая сила — от русских. Без передышки шла перевозка кирпича, брёвен и рельсов, измочаленных коней возвращали хозяевам, требовали замену.
Мирон Дмитриевич прочёл десятки книг и сам мог лекцию прочесть (да и читал же) о причинах того советско-китайского конфликта, расстановке сил, ходе военных действий и условиях последовавшего затем соглашения. Но и профессиональному историку — а скорее, ему-то особенно — интересен безыскусный рассказ очевидца. Всё начинает видеться, как в бинокль, с близкого расстояния, выпукло, в деталях, картинках, у истории появляется цвет и запах.
Заречный посёлок опоясался блиндажами и дзотами. До погранзаставы в Бугатуре меньше пяти вёрст. На сопке, рядом с домом Измайловых, окопались китайские солдаты. Подходит время обеда. Из штаба, низко пригибаясь, рысцой, китайцы несут на коромыслах вёдра с едой. И тут же с советской стороны, из-за реки, начинают бухать орудия. Солдаты, роняя вёдра, падают на землю, лапша растекается по траве. «Советские воевать не умеют, — жалуется офицер. — Обед, кушать надо, а они стреляют». Та же хохма из-за Аргуни повторяется в обед и на другой день.
В ноябре, с первыми морозами, братья Измайловы собрались на реку Уршун за садковой рыбой. Кони подкованы, телеги исправлены. Утром оделись в новенькую зимнюю амуницию. Всё нашито, навязано материнскими руками — стяжённые верблюжьей шерстью штаны, толстые носки, к ним стяжённые же портянки, свитера, полушубки, бараньи шапки, варежки, рукавицы. В Барге зима шутить не любит, три-четыре месяца держатся тридцатиградусные морозы. Коням в дорогу насыпан овёс, сами позавтракали мясными пирожками. Пора запрягать…
И тут тишину утра взорвал гром. Выбежали из землянки. С запада на город летела стая крылатых машин. Земля под ними взметалась взрывами и огнём. Сделав большой круг, стая ушла обратно, за нею показалась другая. И снова взрывы, столбы дыма, пальба. А если начнут бить по китайским укреплениям в посёлке? Конные и пешие бросились из Заречного в сторону от реки. Боялись больше не за себя, а за лошадей. Митя запряг Серко, любимого своего жеребчика, и помчался вскачь в город, чтобы потом увести туда же других коней. Но лишь разогнался, как навстречу бросился китайский солдат с ружьём, сел по-хозяйски в телегу и велел поворачивать назад в депо. Там в тесноте расположилась целая рота китайцев. Принесли пампушек и каши. Пообедав, солдаты задремали, и Митя решился бежать. Перелез через забор и железнодорожными путями домой. Бог спас: минуту спустя орудийными залпами из-за реки накрыло депо и железнодорожную школу, здания превратились в дымящиеся развалины. Редкие оставшиеся в живых солдаты побежали прятаться в сопки.
К вечеру всё стихло. Серко — жив остался! — сам вернулся домой. С рассветом в посёлке показались красноармейцы. Перебежками, пригибаясь, они продвигались к окопам и блиндажам. Напрасно боялись: ночью китайские части отступили в сторону станции Чжалайнор. Но там их встретила прорвавшаяся далеко на юг красная кавалерия. Солдаты бросились назад в Маньчжурию. В городе придумали переодеваться в гражданских, в поисках цивильной одежды стали чистить магазины. Улицы были завалены армейскими полушубками, шапками, сумками, винтовками. А по дворам метались, пытаясь спрятаться, небритые чумазые типы в дорогих английских пальто и модных шляпах не по размеру, кто в мужских, а кто и в женских.
Маскарад, конечно, только насмешил. Но советских в Маньчжурии больше интересовали не разбитые китайские вояки, а русские беженцы. Удачный выпал случай посчитаться с теми, кто успел уйти от красного пожара в двадцатом году. В приказе по Дальневосточной армии главнокомандующий Блюхер требовал уничтожить белых эмигрантов, способных носить оружие, которых он насчитывал в Маньчжурии до пяти тысяч. Пока армейские части сражались с китайцами, каратели НКВД хватали всех попавшихся под руку русских молодых мужиков. Дмитрий лишился старшего брата Георгия. Соседи Поздняковы двух женатых сыновей — Гавриила и Степана. Редко какая русская семья не потеряла родных той осенью. Схваченных бросали в подоспевшие вагоны и отправляли из Маньчжурии на другую сторону. Всё равно, что на другой свет: ни один из угнанных не вернулся и не подал никакой вести родным.
Подобная же судьба ждала несколькими годами позже и советских служащих КВЖД. После уступки дороги японцам их отправили в СССР, в Воронеж, и почти все они в 1938 году полегли в лесной растрельной Дубовке: чекисты разглядели в репатриантах японскую агентуру.
И в целом кампания для китайской армии складывалась неудачно. 22 декабря 1929 г. был подписан хабаровский протокол, по которому военные действия в Маньчжурии были закончены, советские арестованные освобождены и на КВЖД восстановлено прежнее положение. После подписания перемирия положение русских эмигрантов стало меняться к худшему. Боясь возобновления конфликта, китайские власти решили разоружить и взять под свой контроль белогвардейские отряды и органы эмигрантского самоуправления. Они выслали из Харбина и других городов Маньчжурии видных вождей белой эмиграции. Тем самым положили начало более активному переселению русских в портовые города Китая, главным образом, в Шанхай.
Пятое колесо Маньчжоу-Го
Невелика река Аргунь, но разделила мир надвое. Неширока — а не переплывёшь. На той стороне Советский Союз, ощетинившись заставами, готовился к отражению Квантунской армии. На этом берегу хозяйничали японцы.
Относительно эмиграции оккупационный режим поначалу действовал мягкой лапой. Русских официально провозгласили «пятой нацией», участвующей — совместно с японцами, китайцами, маньчжурами и монголами — в строительстве и защите Даманьчжоу-диго — Великой Маньчжурской империи.
Начальник японской военной миссии в Харбине генерал Янагита обратился к эмигрантской молодежи Маньчжурии с призывом не забывать оставленное отечество — Россию, гордиться именем русского. Но при этом знать и помнить, что у них есть вторая родина — Маньчжоу-го, готовиться служить ей и помогать в священной войне против коммунистов и англосаксов. С победой мир и благоденствие наступят для всех народов, сомкнувшихся под одной крышей с героической нацией Ямато.
Для единения сил оккупанты организовали Русское эмигрантское общество. В Маньчжурии его возглавил станичный атаман забайкальских казаков Эпов. Парням и девушкам пришлось примерять японскую форму. Утро новобранцев начиналось с исполнения гимнов и церемонных поклонов. Русский текст гимна Маньчжоу-го отец, оказывается, запомнил на всю жизнь — и однажды запел тонким плаксивым голосом, изображая китайские интонации:
Явилась на Земле новая Маньчжурия.
Новая Маньчжурия — обновлённая страна.
Сделаем же наше государство цветущим и безбедным!
Пусть царит любовь и не будет вражды.
Нас тридцать миллионов.
В семье и в государстве порядок. Что еще нужно?
Власть императора благотворна и сильна.
Мир наполняется божественным светом.
Пожелаем императору долголетия и здоровья
И поддержим все его начинания!
— Видишь, не забыл, — говорил отец. — Вот что значит молодость! А теперь на другой день ни слова не вспомнишь.
На учениях «дружинники» тушили воображаемый пожар, часами передавая друг другу по цепи пустые ведра, ползали по земле, прятались в ямах, рогожками или песком из бумажных кульков накрывали «падающие с неба бомбы».
Мирон спрашивал, сразу ли узнали в эмиграции о нападении фашистской Германии на СССР, как восприняли начало войны, что вообще могли знать о её ходе.
— Японцы вели такую пропаганду, что ваша страна, мол, оккупирована коммунистами, врагами всего русского, что Советский Союз — это порабощенная Россия, а потому надо готовиться к войне за её освобождение, — рассказывал отец. — Говорили, что достаточно небольшого толчка извне — и СССР рухнет. И вот, мол, этот момент настал — Германия начала войну. Да, из газет мы знали, что немцы дошли аж до Волги. По радио и на митингах власти клеймили «изменников», то есть тех, кто испытывал симпатии к СССР и не желал победы державам «оси».
С началом войны японские власти установили в Харбине и по всей Маньчжурии строгий информационный режим. Все находившиеся у населения радиоприемники были зарегистрированы и опечатаны так, что могли принимать только одну местную радиостанцию. Новости, которые она передавала, проходили строгую японскую цензуру. Сохранность пломб на радиоприёмниках контролировалась японской жандармерией.
И всё же православные батюшки удивляли в проповедях и частных разговорах своей осведомленностью о положении дел на советско-германском фронте. Ходил слух, что сведениями их снабжает харбинский архиепископ Нестор, а он, мол, каким-то образом получает информацию прямо из Москвы.
— В общем, зимой 41-го и до нас в Маньчжурии стало доходить, что немца гонят, немец драпает… Радовались, конечно, торжествовали в душе. И как-то сразу стало забываться всё плохое — гражданская война и бегство, колхозы, гонения на церковь и наше собственное бесправие на чужбине. Главное — Россия выстояла. И разгоралась у людей вера, что, рано или поздно, граница между нами рухнет, вернёмся домой.
Но чем более радостные вести приходили с запада, тем сильнее ожесточались и закручивали гайки оккупанты. Стали они вмешиваться во все дела русской колонии и даже в дела церкви. В начале 1943 года японская администрация обнародовала многословное, напыщенное «Наставление верноподданным». Населению подконтрольных территорий предписывалось, среди прочего, «благоговейное почитание» основательницы японского императорского рода богини Аматэрасу Оомиками. Согласно «Наставлению», в положенные дни всем, независимо от национальности, надлежало приходить и совершать поклоны перед статуей божества.
Велели собраться и жителям Заречного поселка. Начальник особого отдела японской военной миссии Нагата зачитал полученное «Наставление». Первым пунктом «верноподданных» обязывали благоговейно почитать богиню Аматэрасу. «Какая ещё богиня, что за япона-мать?» — запереглядывались, зашушукались люди. Японец предложил задавать вопросы. Вытолкнули вперёд Дмитрия, избранного недавно поселковым атаманом.
— Господин Нагата, — начал Дмитрий, получив разрешение говорить. — Ведь мы, русские, имеем эмигрантские паспорта и вообще-то не обязаны считать себя верноподданными…
— Вы думаете, что говорите? — строго прервал Нагата.
— Но главное, — продолжал Дмитрий, — почитание других богов несовместимо с нашей христианской верой.
Со всех сторон — шум одобрения.
— Я снова спрашиваю — вы думаете о том, что говорите? — прикрикнул Нагата.
— Да, думаю, — отвечал Дмитрий. — Думаю, что это распоряжение жители посёлка исполнять не могут.
С минуту японец смотрел на него молча, стараясь сразить, подавить взглядом неожиданно встретившееся сопротивление. Замолчал и Дмитрий. Но шум и движение в толпе нарастали. Нагата резко встал и пошёл к выходу. На ходу бросил:
— Изложите письменно ваши возражения.
— Как бы худа какого, паря, не было, — забеспокоился один из стариков.
— Ничего, не боись, всех не посадят, — успокоил казак помоложе.
— А мне-кась пускай садят! — громко крикнула казачка. — Я первая готова пострадать за веру! А какой-то матраске, или как её там, кланяться не стану.
Узнав про «наставления», жители Заречного заволновались:
— Поклоняться их косоглазой богине? Никогда! Никаких японских паспортов и матрасок не признаем. И детям своим не позволим, в школу не пустим, пусть лучше сидят дома.
Прошёл слух, что везут из Японии целый пароход этих самых богинь гипсовых — ставить в церквах. Это было, конечно, выдумкой, но настроение подогрело. Духовенство готовилось держать оборону и не пускать, хоть ценой жизни, статуи за ворота приходов. А один из батюшек с опасностью язычества управился просто:
— А я вычеркнул из наставления про богиню Аматераску-то, да написал вместо этого «благоговейно почитать Господа Бога» — и дело с концом. Так народу и зачитал.
Маньчжурский орех
Излагать свои возражения на бумаге Дмитрий не стал, да и не силён он был в богословии. Сказал, как чувствовал, во внезапном порыве, не думая о последствиях. Надеялся, что замнётся, забудется. Однако на третий день после собрания принесли повестку от начальника особого отдела военной миссии. Дмитрий слышал, что в городе начались аресты. Взяли его друга Лёньку Власова, работавшего в бюро эмигрантов. Священники, открыто выражавшие неповиновение «наставникам», были либо изгнаны из своих приходов и выдворены из Маньчжоу-Го, либо замучены в застенках (священники Александр Жуч, Фёдор Боголюбов, иеромонах Павел). Так что шёл он в отдел с настроением кролика перед удавом. В лавке знакомой старухи-китаянки выпил для смелости стакан ханжи, заел зинтаном, таблетками, хорошо убивающими запах.
Отдел Нагаты размещался в бывшем доме торговца Евангелидиса. И вспомнилось, как в молодости, ещё холостыми, приходили в магазин, чтобы только увидеть, хоть мельком, дочку хозяина Женю. Покупали какие-нибудь пустяки, садились за столик и ждали, не покажется ли черноокая гречанка с косами до колен. Бывало, она сама и стояла за прилавком. Чаще же торговал приказчик или хозяин. «Неудачный сегодня день», — смеялись на улице, не повидав Женю.
Теперь в бывшем магазине встречал не приветливый Евангелидис, а секретарь Нагаты, высокий японец со злым и хитрым лицом. Около часу протомил в прихожей. Но принял не сам Нагата, а советник Накамура, довольно молодой, интеллигентного вида, в тонких золотых очках. С улыбкой протянул руку, пригласил садиться.
— Господин Измайлов, начальник отдела опечален и возмущён вашей выходкой, которую вы допустили при ознакомлении жителей посёлка с «Наставлением верноподданным», — начал он по-русски мягким негромким голосом. — Инцидент может иметь серьёзные политические последствия. Вот почему мы не могли оставить его без внимания. Думаю, всё произошло из-за того только, что вы не поняли суть «Наставления», не знаете какой богине призывают вас поклоняться. Так вот, я хочу по-дружески вас просветить. Аматэрасу Оомиками — душа нашего народа, основа государственного строя империи. Вы русский, а все русские, как пятая народность Маньчжоу-Го, должны гордиться, что получили право войти в семью этих народов.
— Скажите, господин советник, а эта богиня Аматэрасу действительно существует? И где она обитает? — спросил Дмитрий.
— Конечно, существует, и живёт там, на небе, — советник поднял вверх указательный палец.
— Выходит, — продолжал Дмитрий, — мы, христиане, должны признать существование двух богов — нашего бога и вашей богини. Но тогда мы перестанем быть христианами, перестанем быть русскими. Единобожие не позволяет нам этого.
— Нас это не касается, — ответил советник. — Вы, конечно, можете иметь своих богов — Христа, Будду, Конфуция, Магомета, это ваше частное дело, но все эти ваши боги пребывают в свете великой богини солнца Аматэрасу Оомиками.
— Скажите мне, Накамура-сан, — продолжал Дмитрий, — что более ценно в ваших глазах — правда или ложь?
— Разумеется, правда, — ответил советник. — Императорская власть уважает и ценит правдивых и честных людей.
— Тогда зачем вы заставляете меня кривить душой? Ведь, даже согласившись с вами на словах, я всё равно останусь при своём мнении и вынужден буду лгать людям. На лжи далеко не уедешь, люди её не примут.
Советник помолчал в раздумье, а потом сказал:
— Что ж, благодарю вас за откровенность. Я не знал, что у русских так глубока вера. Кажется, я вас понял и постараюсь сделать, что от меня зависит, чтобы поняли высшие власти.
Дней через пять после этого разговора с советником Нагаты Дмитрия вызвали в департамент полиции. Казалось бы, ничего особенного, вызывали и раньше — вручать под роспись административные распоряжения, требовать людей на военно-строительные работы, по другим делам. Но тут сразу пошло иначе. Взяв повестку, дежурный офицер потребовал паспорт, куда-то позвонил, отдал распоряжения по-японски. Подошли три жандарма с револьверами наготове и повели на улицу, через двор в тёмное двухэтажное здание с мелкими окнами. Сердце сжалось — да это же тюрьма! Мрачный холодный коридор. С правой стороны узкая дверь с решеткой. Открыли и толкнули внутрь. Сопротивляться и говорить что-то было бесполезно. Дверь закрылась, щелкнул замок. Несмотря на полушубок, пронизывающий холод охватил всё тело. Стал думать, с чем связан арест. Хотят допросить по делу Лёньки Власова? Или шьют политику из-за этой самой Аматэраски? Вызывали же к Нагате. А тот советник, должно быть, только казался добрым и сочувствующим. Сообщат ли жене? Впрочем, сама поймёт, сказал же, что идёт в полицию. А оттуда не всегда возвращаются в последнее время. Но когда же вызовут? Как ночевать на холодном полу?
Очнулся от боли в шее и в ногах. Конура два на три метра слабо освещалась утренним светом, проникавшим через затянутое льдом окошечко. Грязно-серый низкий потолок, загаженные стены, в двери зарешеченное отверстие. На полу гнилая солома, битый кирпич. И насквозь пронизывающий холод.
Зимний день угасал, когда в окошечко постучали.
— Луска, канцелярий ходи, — сказал кто-то и щелкнул замком.
Дмитрий едва выполз из конуры. В коридоре встал на дрожащие ноги и, опираясь о стены, пошёл за жандармом. В небольшой комнате на этом же этаже за письменным столом сидел довольно молодой японец в штатском, с простым и вроде бы добрым лицом. Разрешил сесть. Первый вопрос:
— Вы знаете, за что вас арестовали?
— Нет, не знаю, — ответил Дмитрий. — И думаю, при справедливой японской власти не должны так поступать, бросать в тюрьму без всякого объяснения.
— Советую вам так не говорить, — мягко сказал японец. — Вас задержали за выступление против власти. Ваши действия опасны, особенно в военное время.
— В чём же опасность? — спросил Дмитрий. — Я лишь открыто, в присутствии господина Нагаты, сказал то, что думаю.
— И всё же — что заставило вас встать на такой опасный путь?
Дмитрий тоскливо огляделся.
— Господин следователь, нельзя ли чаю? Я не пил уже сутки. И страшно промёрз.
— Вы хотите пить? — улыбнулся японец. — Вам дадут горячий чай и галеты. Но прежде скажите, кто из ваших знакомых разделяет такие взгляды? Это облегчит вашу участь.
Дмитрий молчал.
— Вы обвиняетесь в оскорблении его величества, так как нарушили закон о священной особе императора Маньчжоу-го и отвергли его наставление верноподданным, — продолжал следователь, смотря в глаза.
— Я русский эмигрант, и верноподданным его величества считать себя не могу, — отвечал Дмитрий.
— Так нельзя говорить! — крикнул следователь. — Я не разрешаю!
— Я всё сказал, а вы решайте.
Следователь опустился на стул, помолчал, собираясь с мыслями.
— Мне жаль вас, — начал он, меняя голос на прежний, спокойный. — Я чувствую, что вы искренний человек… Но я исполняю свой долг перед родиной и императором. Вас освободят при условии, если осознаете свою ошибку и вину перед японскими властями.
— Господин следователь, я не могу отказаться от своей веры. Вы, как самурай, хорошо знаете, что такое вера и долг. И моя вера нисколько не противоречит японской власти и государству Маньчжоу-го.
— Хорошо. Но ради простой формальности вы должны раскаяться в своей ошибке, я занесу это в протокол, и вас вскоре освободят.
— Никакой ошибки не было.
— Нет, вы ошибались! — твёрдо сказал следователь и что-то написал в лежащую перед ним книгу.
Отвели в тот же промёрзший каземат. «Видно, придётся околевать здесь», — думал Дмитрий. Но чудо — вскоре принесли горячий чай и пампушки. Вечером в коридоре, близко от камеры, кто-то бросил на пол дрова, стал растапливать невидимую печь — и в камеру проник запах смолы и дыма. Воздух стал нагреваться. Потом в окошко кинули кусок войлока. Теплее стало и на душе.
Утром Дмитрий проснулся в радостном ожидании: должны выпустить. Но прошёл день, и другой, и третий. И неделя прошла. Каждый день приносили кусок чёрствого чёрного хлеба и чашку с водой. Подавали молчком, на вопросы не отвечали.
На девятый день снова повели в канцелярию. За столом сидел тот же следователь.
— Я сделал для вас всё, что мог, — сказал он. — Сегодня получено разрешение освободить вас. На прощанье хочу дать совет — никому, никогда и ничего не говорите о богине Аматэрасу Оомиками. Это в ваших интересах. Вообще забудьте о ней. Лично вас никто не заставит кланяться Аматэрасу, а что касается других — это не ваше дело.
На слабых шатких ногах Дмитрий вышел со двора департамента, постоял, удивляясь высоте и голубизне неба, свежести морозного воздуха, сверкающему снегу. Дома со слезами бросилась на шею жена. Выпустили! Каким страшным было ожидание! Выпускали не всех…
Оказалось, освобождению Дмитрия помогли харбинские архипастыри Мелетий, Димитрий и Ювеналий, строго запретившие церковным приходам Маньчжурии любые ритуалы, нарушающие чистоту православной веры. Японские власти дрогнули. Генерал Янагита послал запрос в Токио — и там сочли возможным смягчить первый пункт «Наставления»: «благоговейное почитание» богини Аматэрасу заменили простым «уважением».
Но аресты продолжались, чаще всего по обвинениям в диверсии и шпионаже в пользу СССР. Опасно стало даже смотреть в советскую сторону. «Тебе туда хочу?» — спрашивал полицейский парней, оказавшихся на берегу реки. Потянулись люди на восток, подальше от границы. Кто побогаче, уезжали в Харбин, кто мог — и в Шанхай.
Дмитрия встретил как-то на улице знакомый следователь Савин — теперь он служил у японцев.
— Что, Измайлов, всё атаманствуешь? — заговорил с подковыркой. — Советую тебе убираться из Маньчжурии, от греха подальше, спокойнее будет.
— Какого греха? — растерялся Дмитрий.
— Сам знаешь, какого. Серьёзно советую.
Дмитрий так и не понял, пугал его Савин или предостерегал. Но и без его советов было понятно, что над приграничьем сгущаются тучи, недалеко до грозы. Решили с женой перебираться в Хаке, небольшой станционный посёлок восточнее Хайлара, где собралось уже немало бывших маньчжурцев.
Стоял март — и надо было быстрее, пока не тронулась Аргунь, заготовить и привезти тальник, огородить дворы на отведенной для постройки площадке. Поставил Димов дом на новом месте. Тут и суждено было появиться на свет Мирону. Ничего, здоров, седьмой десяток пошёл. Спасибо бабке Агеихе, повитухе, что приняла его, не повредив ни головы, ни ног. Спасибо батюшке Ростиславу, что окрестил в хайларской церкви. Вечная память!
В школе Мирон учился уже по советским учебникам, вместе с тем хакинский батюшка отец Алексей продолжал просвещать на уроках Законом Божьим. Жили по двум календарям. Вот Мирон, разглядывая советский, оповещает бабушку: «А сегодня, смотри-ка, праздник — день Парижской Коммуны!» Она ему в руки свой календарь, церковный: «Какой ещё коммуны, прости Господи! Сегодня мученики, прочти-ка ихний акафист». Как праздновать «Парижскую Коммуну» никто не знает. И они с бабушкой, конечно, отправляются к вечерне в церковь помолиться добропобедным мученикам.
Взрослые по праздникам — а отмечались лишь церковные, православные — гуляли широко, весело, пели старинные, сбережённые из прежней России песни и романсы, могли под шумок грянуть и «Боже, царя храни!». Однако молодёжь уже знала «По долинам и по взгорьям», «Катюшу», «Широка страна моя родная». В основном сохранялся уклад старорежимный. По воскресеньям и стар, и млад шли в церковь, все помнили молитвы, многие держались постов, в каждом доме в красном углу светились иконы, зажигались лампады. Одевались в большинстве тоже по старой моде — казацкой или цивильной. Да и стол в дни торжеств составлялся из блюд старинной кухни, названия многих теперь встретишь лишь в книгах. Женщины свято хранили и передавали младшим, дочерям и снохам, рецепты русского гостеприимства. Каждый праздник обставлялся особым набором яств. Пировали с размахом, большими, шумными застольями, из домов гулянья нередко выливались на улицы. Но «чёрного» пьянства не было, и в будни, без повода, питьё не приветствовалось, да фактически и не встречалось. «Любителей» всех знали наперечёт, они становились посмешищем и в какой-то степени изгоями. Трудились основательно и серьезно. И не просто «вкалывали», а умели развернуть дело, собрать капитал, обучиться необходимым профессиям, завести деловые связи с заграницей. Потому-то русская колония выделялась в море нищего тогда китайского населения относительным благополучием и порядком. Сегодня отцу было бы трудно, почти невозможно, поверить в то, что китайцы в чём-то смогли обойти русских, преуспеть больше их.
Возвращение
— Смотри, Митя, да ведь там, кажись, вороны летят! Живность! Так что не пропадем, ворон стрелять будем!
Сосед Иван Кузнецов, дядька богатырского роста и невероятной силы, перебежал на станции из своего вагона, и вот они с отцом, сидя у окна друг против друга, как-то невесело балагурят. Пятый или шестой день пошёл, как поезд пересёк границу и едет по Советской стране. Мирон, лишь проснётся, тут же бросается к окну. Смотреть не наскучит — всё новое, невиданное. Позади остался Байкал. На больших станциях их снабжают кипятком и солдатским супом. Длится и никак не кончается Сибирь. А переселенцы и не знают, куда их везут, где та остановка, на которой предстоит сойти и начинать жить заново. Собрались в Союз, а что там, как там, — и сами взрослые, кажется, знают ненамного больше детей.
— Нет, поститься придётся. Теперь, Иван, мясо видеть будешь только на Октябрьскую и Первомай, — говорит отец. — Магазинов-то, наверное, вовсе нет.
— Деньги тогда для чего же? Нет, раз деньги печатают, то и торговля какая-то должна быть.
— А, помнишь, говорили, что коммунисты без денег живут? Теперь вижу, что врали.
Иван достает из кармана новенькие бумажки, разглядывает:
— Смотри-ка, с Лениным!
— Привыкай!
На приграничной станции с суровым названием Отпор дали «подъёмные», кажется, по три тысячи на семью. Зато отняли всё «неположенное» — иконы, книги, граммофонные пластинки. Мирону до слёз жалко старой Библии с благословением батюшки Алексея. Да что там, пропала и книга инженера Герасимова о рудах Забайкальского края, подарок деду царя Николая. Какие картинки были там интересные! А отец побоялся взять из-за царской подписи на обложке и сам сжёг книгу ещё дома в печке.
На границе переселенцев встречали «покупатели» живой силы из целинных хозяйств Сибири и Казахстана. Они ходили вдоль эшелона, заглядывали в вагоны, заговаривали — выбирали работников покрепче и помоложе. Их вагон в числе десяти прочих достался Курганской области. Высадили на станции Шумиха и куда-то повезли на разбитых грузовичках.
После нескольких часов тряского пути машина развернулась у плоских длинных бараков, похожих на китайские фанзы. Множество незнакомых женщин и детей смотрели во все глаза и угрюмо молчали. Мирону стало страшно, только сейчас он осознал со всей безысходностью, как далеко они заехали от родных мест, от привычной жизни, и что туда не вернёшься теперь никогда, и жить придётся среди этих непонятных людей. Взяв поданную из кузова табуретку, он понёс ее к дверям, толпа перед ним испуганно расступилась. Позже «местные» признавались, что ждали настоящих китайцев, представлявшихся им, видимо, в ярких шёлковых халатах, с косичками, с веерами и зонтиками в руках. Простой русский вид переселенцев, видимо, удивил и разочаровал. Впрочем, в деревне всё равно их ещё долго звали китайцами.
В тёмной сырой конуре с просвечивавшимися от худобы стенами (к зиме их потом сами залепили глиной потолще) предстояло прожить два года в режиме карантина: к советским порядкам надо было привыкать постепенно. В соседних бараках обитали сосланные в Сибирь после войны молдаване. И несколько цыганских семей, попавших под объявленную тогда кампанию приручения к оседлой жизни. Их неунывающий нрав, пенье и пляски под гитару, детские драки и ругань придавали барачному житью-бытью живописный колорит табора.
Понемногу у костров стали появляться и местные. Поначалу они не решались близко сходиться с «китайцами» — всё же люди из-за границы, под присмотром. Первыми, как всегда бывает, осмелели и перезнакомились между собой дети, за ними их матери. На первых порах женщины молча смотрели со стороны, отказываясь переступать порог или садиться за стол. Мужики сходились быстрее. Но мужчин в селе было мало, особенно здоровых, не увечных. Из разговоров понемногу узнавалось, что и как здесь бывало, какую великую войну перемогла страна всего лишь несколько лет до этого, сколько горя пришло с нею почти в каждый деревенский дом. И собственные лишенья перед испытаниями и утратами этих людей казались мелкими и не обидными. Да сколько же всего предстояло ещё узнать и понять, принять в сердце, чтобы не остаться навсегда чужими, приезжими, чтобы по-настоящему, кровно соединить себя с живущими рядом, с незнакомой пока ещё, хоть и русской, землёй, свою долю сочетать с общей судьбой. Ведь только тогда могло состояться настоящее возвращение и обретение России, не той, воображаемой песенной, былинной, эмигрантской, а нынешней, здешней, советской. А давалось это не просто...
Отец Мирона умел делать, кажется, любую работу. Если взяться считать, он владел десятком-другим наиполезнейших профессий: способен был поставить дом — хоть деревянный, хоть каменный; выложить печь; завести пашню или расплодить без числа коров и овец; своими руками выделать кожи и нашить шапок, сапог, полушубков; знал повадки диких зверей и умел лечить домашних; находить в степях и в лесу дорогу без карт и без компаса; владел на бытовом уровне китайским и монгольским; играл на гармони, а в молодости и в любительском театре; несколько лет атаманствовал, т.е. занимался земской работой. Но все это, наработанное и скопленное в той жизни, враз оказалось ненужным и бесполезным в этой, где на работу «гоняли» (так и говорилось: «Тебя куда завтра погонят? А меня вчера загнали на посевную»). Здесь невозможно было никаким уменьем, стараньем, упорством что-либо исправить, улучшить, сделать по-своему, облегчить жизнь своей семье. Переселенцы будто остались без рук, которыми ещё вчера умели столь многое. Было от чего пасть духом и занемочь. Кладбище в соседней рощице за два года сильно подросло могилами «китайцев». У Мирона умерла мать, умерла бабушка. Когда же срок карантина подошел к концу, выжившие стали разбегаться. Первыми на разведку кинулась молодежь. Совхозное начальство тянуло с документами, не давало отпусков, запугивало — но люди разлетались, как воробьи. Еще раньше за лучшей долей куда-то откочевали цыгане.
Как-то Мирон Дмитриевич вновь посетил печальное селенье — воскресить память детских лет, навестить могилы. На месте бараков увидел длинный ряд бугорков и ямок, поросших бурьяном.
Первые годы репатрианты ещё держались друг за друга, соблюдали обычаи, жениться предпочитали на своих, знались, наезжали в гости. Но уже их дети стали забывать прежнее землячество и родство, пообтерлись и стали вполне советскими. Мирон Дмитриевич по отцу видел, как менялись со временем взгляды и настроения бывших эмигрантов. В семидесятых годах его как-то разыскал и навестил двоюродный брат из Австралии, бывший харбинец. «Хвалился, как они там богато живут, — рассказывал отец потом с неудовольствием. — А я его спрашиваю: кем же твои парни работают? Грузовики водят? Ну вот, а мои все трое институты закончили. Да и говорим здесь, слава богу, на своём языке».
Спустя двадцать лет им уже трудно было понять друг друга. Их сняли со льдины, называвшейся Русской Манчжурией, и развезли на разные континенты. А сама льдина растаяла...









